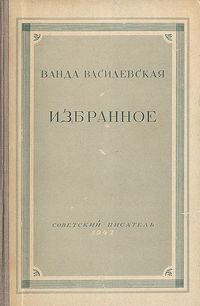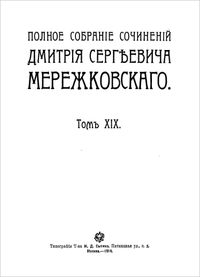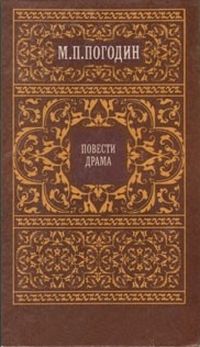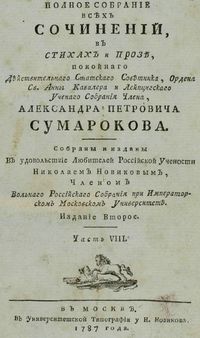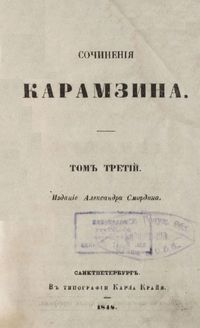Василий Жуковский «Пустынник» (1812-13)
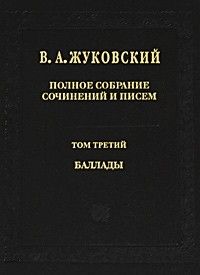
Вольным стал перевод баллады «Отшельник» («Эдвин и Анжелина»), допускал разночтения русский вариант, главная героиня во строках прозывалась Мальвина, но сама баллада — сентиментализма бриллиант. Сюжет из древности был взят: из средних веков. Английские поэты его вниманием не обходили. Для Жуковского версия Оливера Голдсмита — основа основ. Баллада про то, как два любящих сердца себя вновь находили. Грузен казался слог, ибо поступь грусти должна отягощать. Значит, писал Василий, коли мог, показывая, через какие страдания надо тягости жизни принимать.
Канва происходящего проста, а вместе с тем и мудростью полнится, зато изложено доходчиво весьма, редкий читатель не впечатлится. Таков уж замысел, чтобы читатель переживал, полагается испытать эмоции от недоумения к радости, не пустыни житель главным героем в сказе стал, а некий странник, пожелавший вкусить пребывания в пустыне тягости. Кто он? Читатель будет томиться едва ли не конца. Ради каких помыслов странник пришёл в место, где находят угодные Богу приют? Всё пройдёт, когда читатель узрит, смотрящие друг на друга, оба лица. Укорит тогда же судьбу, поскольку два сердца иначе счастье никогда не обретут.
Ведь путник — девушка-краса. Она — страдалица времён. Её отец — хитрейшая лиса. Жених её достоинства лишён. Лишён не по причине преступлений. Он беден, словно мышь. Зачем такой? Для впечатлений??? Ему и скажут: «Кыш!!!». Любовь напрасна, невозможной казалась она, потому, без всякого коварства, ушёл жених куда-то навсегда, и может прочь из грубостью наполненного царства. «Ушёл в пустыню!» — говорили люди, и приходилось тому верить. «Ушёл из жизни!» — говорили слуги, осуждением их приходилось мерить.
Читатель понимает, к чему стремится автор подвести. Ясным становилось желание девушки покинуть отчий дом. Конечно, лучше по пустыне брести, чем слушать от сражающихся рыцарей мечей звон. Рыцари бились за право руку девушки поцеловать, притворно бились, притворно целуя, стало ей это надоедать, осталось себе нашёптывать: «Уйду я!». И вот пустынник, вот пустыня. Вот странник, девушкой представший. Да знал без слов пустынник его имя. Мальвиной звался он, мужской облик для утайки принявший.
Как тут слезам не хлынуть из глаз? Столько вложено автором смысла в сюжет. Ничуть не изменившееся общество окружает поныне нас, смены долгожданной никак нет. Сохранились запреты, желание родителей видеть счастливыми детей сохранилось. Неважно, сколько баллад о том напишут поэты, сколько человеческих сердец во строчках разбилось. Неизменно и желание детей самим устраивать судьбу, скорее действуя воле чуждой вопреки, готовы объявить близким людям войну, пусть хоть родители давно уже старики. Что тут скажешь? Поэтам то надо говорить. Они загадочно молчат. Не любят сообщать, чем дальше сим влюблённым жить, отчего их жизнь превращается в ад.
Баллада сложена. Жуковский хорошо перевести сумел. Внимать истории душа читателя расположена, для того поэт её ладно и спел. Как сказано было, поступь стиха тяжела, во строчках всё будто застыло, лишь поступь двоих оказалась легка. Пустынник доволен, нашёл он покой. Доволен и странник, чьи помыслы не сразу стали ясны. Каждый из них был доволен судьбой. Особенно, когда друг друга они снова нашли. Для общества мертвы, нельзя назвать живыми, как призраки войны, что бродят промеж ними. Их счастье — пустыня хладная, разгорается к утру жар чей, зато не видится там мина злорадная, на чужое счастье искры мечущая из очей.
С судьбою не борись, иди наперекор всему — иного смысла не стоит искать. Надо, тогда объяви войну, либо молча можешь от всех убежать. Но зачем далее размышлять, ежели сказано лишнего изрядно. Главное, Жуковский оттачивал навык баллады сочинять, получалось ведь у Василия складно.
Автор: Константин Трунин