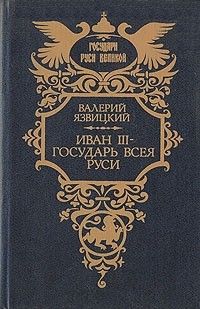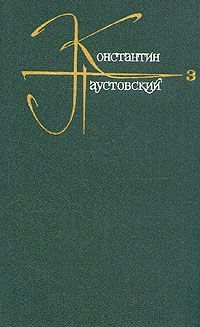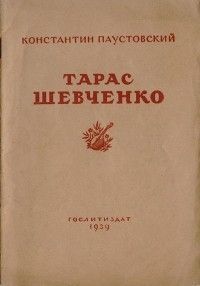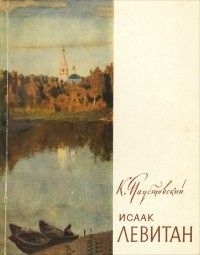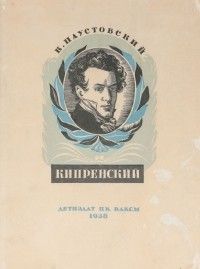Михаил Булгаков «Адам и Ева» (1931)
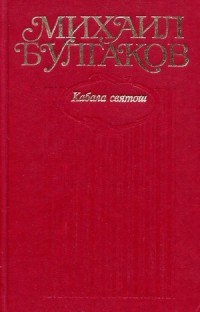
Оглядываясь назад, видя последствия Первой Мировой войны, Булгаков понимал, подобного не избежать и в будущем. Человечество продолжит совершенствовать оружие, способное убивать людей массово. На полях сражений уже применялись отравляющие вещества, обеспечивающие возможность завоевания территорий с малыми потерями со своей стороны. Те футуристические фотографии, ныне нам доступные, кажутся взятыми из грядущих дней. Люди в противогазах взирают на приближение сил противника, впереди которых будто бы расстилается невидимый глазу газ. Ежели подобное было, значит оно повторится. Причём с таким размахом, что велика вероятность гибели всего человечества. И тогда вполне может оказаться так, что появятся те самые Адам и Ева, считаемые христианской религией первыми людьми, только на этот раз они будут единственными выжившими.
Впрочем, Михаил не был столь категоричен. Выживут многие, дабы придти в ужас от свершившегося. Их словами Булгаков расскажет, как сыпались бомбы на города, взрывами распространяя химическую заразу, быстро убивавшую людей. Но как быть с дальнейшим сюжетом? А вот тут Михаил не приложил значительных усилий. Согласно сохранившимся свидетельствам, он получил заказ от ленинградского Красного театра, должный написать пьесу о прошлом, настоящем и будущем, не оговаривая сюжет и получая всю сумму за предстоящую работу. Ныне таковое проще назвать халтурой, чем собственно это и являлось в действительности.
Война случится обязательно: должно быть предполагал Михаил. Сойдутся не национальные интересы государств, то будет сражение между капитализмом и социализмом, не способных ужиться на одной планете. Различие в мировоззрении подготовит почву для самоубийственного мероприятия. Злоба изольётся, несмотря на должные случиться последствия. Даже окажется так, что всё, считавшееся незыблемым, будет уничтожено. Остаётся поделиться мнением об этом, дабы в следующих сценах обрушить на действующих лиц неизбежно должное случиться.
Описав в меру цветущее государство, Булгаков с пессимизмом подведёт к пониманию навсегда утраченного. Представленные им персонажи будут ужасаться, осознавая реалии оставшихся для завершения земного пути дней. Как они это будут делать — не так важно. Главнее придти к мнению касательно ситуации вообще. Если так подходить к пониманию содержания «Адама и Евы», то цена произведения Михаила весьма велика. Всё-таки он предостерегал от неразумных поступков, наглядно описывая военный конфликт завтрашнего дня, обязанный случиться, так как капитализм действительно не уживётся с социализмом, скорее первым развязав боевые действия, покуда собственное население не устроило социалистическую революцию.
Михаил не отступил от условий. Он одновременно описал прошлое, настоящее и будущее, сведя действие к показательному примеру, как неблагоразумие людей приведёт к тому, что возможно некогда уже имело место. Ведь, если задуматься, может быть и такое: Адам оказался в единственном свободном от ядовитых испарений месте, после чего в результате генетических экспериментов получил подобие себя, благодаря чему люди не вымерли окончательно. Конечно, такое рассуждение расходится с содержанием пьесы Булгакова, но вполне имеет право быть высказанным.
Можно ли теперь, спустя время, по мотивам «Адама и Евы» написать нечто подобное? Надо сказать, такое вовсе не требуется, поскольку полки книжных магазинов завалены различными произведениями о человечестве, приходящим в себя после глобальных разрушительных войн, ставивших людей на грань уничтожения. Причин к тому было достаточно, причём химическая война — своего рода архаизм, никем всерьёз не воспринимаемый. Хотя, именно у химического оружия самый большой потенциал, учитывая его незримость и тот факт, что доказать его применение в ряде случаев не представляется возможным.
Автор: Константин Трунин