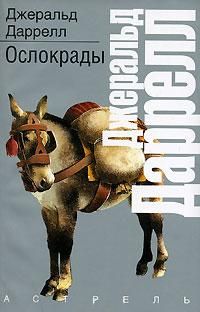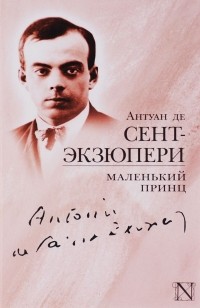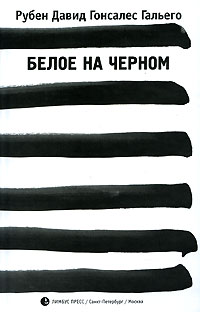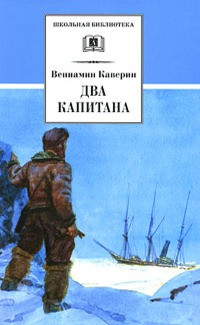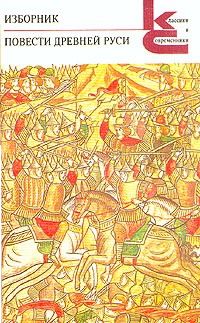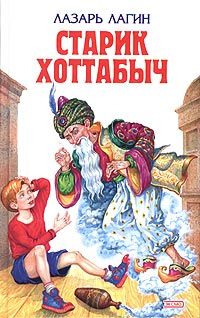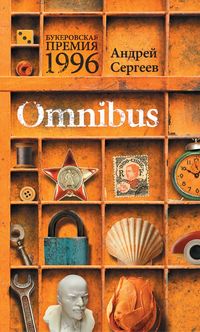Джеральд Даррелл «Птицы, звери и родственники» (1969)
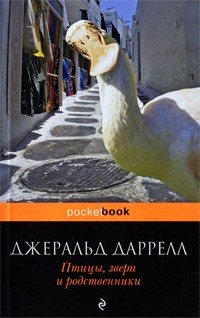
Сказки закончились. Они перестали вдохновлять Даррелла. Закончились и деньги, ежели Джеральд снова взялся вспоминать о прошлом. Вместе с тем, приходится признать, закончилось и воображение. Даже читатель у Даррелла закончился, ибо вырос и потребовал юмора уровнем выше детского. Ясно направленный взгляд Джеральда стремительно повзрослел. Более не требовалось находить общий язык с людьми, особенно с родственниками. Даррелл пошёл на разрыв отношений, вступая в очередной виток конфронтации с близкими ему людьми. Ему прямо говорили — не пиши, не позорь нас, напоминая о том, что лучше забыть. Но Джеральд не слушался — он писал, тем обеспечивая себя гонораром. А если задуматься, то каково значение его второй книги из цикла о Корфу?
Лучше понять детство Даррелла не получится. Он теперь не рассказывает о себе. Объектом внимания становятся мать, братья, сестра, а также другие животные. При этом так и остаётся невыясненным, в виде каких животных Джеральд представил на страницах трилогии своих родственников. Это интересует не одного читателя. Родственники задавали ему такой же вопрос, на который у него не было ответа, ведь людей за животных Даррелл не принимал.
Сюжета нет. Джеральд предложил набор историй. Хронологической последовательности тоже нет. Всё размещено без привязки к чему-либо. Например, первой историей является повествование об увлечении сестры спиритизмом, когда семья переехала в Лондон, остановившись в отеле «Балаклава». В дальнейших историях речь коснулась подробного описания греческой свадьбы и даже маминого ухажёра. В остальном — набор любопытной информации о братьях меньших: как навозные жуки катают столь ровные шарики и для чего они им, как кормить и не перекормить ежат, отчего шумит всегда тихая сова, почему дрессированные медведи у цыган безобиднейшие из созданий.
Оправдание написанной книге всё же есть — заполнение белых пятен биографии Даррелла, а также сбор денег на планируемые путешествия. Джеральд собирался посетить австралийский Большой Барьерный риф. Удивительно в этом обстоятельстве то, что о рифе Даррелл не станет писать заметок, оставив читателя с осознанием наличия всё тех же белых пятен.
Опять оставим в стороне понимание правдивости излагаемого на страницах. Сомнительно, чтобы Даррелл так хорошо помнил о событиях тридцатилетней давности. Тут более фантазия, нежели отражение действительно происходившего. Нетрудно догадаться, почему на Джеральда могли обижаться родственники. Уж если сам не помнишь о столь давних событиях, то тем обиднее, что тебя высмеивает собственный младший брат, да ещё и выставляя это на всеобщее обозрение.
И всё-таки Даррелл не обо всём рассказал. В начале он описал беседу членов семьи, касающуюся как раз написания продолжения, поведанного им в книге «Моя семья и другие животные». Были перечислены требующие отражения темы. Фактически половина из объявленного обошла читателя вниманием. Тут стоит винить, возможно, переводчиков, так как есть мнение, что на русский язык именно данное произведение Даррелла никогда полностью не переводилось. Это первый печальный момент.
Второй печальный момент. Дальнейшее литературное творчество Джеральда. Проблема именно в переводах, где-то откровенно слабых, а где-то и вовсе без них. То есть читателю нужно знать язык оригинала, чтобы быть в курсе работ Джеральда. Когда-нибудь, безусловно, творчество Даррелла получит заслуженную оценку потомков, он удостоится всяческих похвал и переводов едва ли на все языки необъятной Вселенной, но пока приходится считаться с тем, что не всякому известно, кем он был и чем занимался.
Правда интересно читать человека, видевшего ежей? А ведь потомки могут забыть о них, если не постараются противопоставить природе заслон в виде сохранения имеющегося.
Автор: Константин Трунин