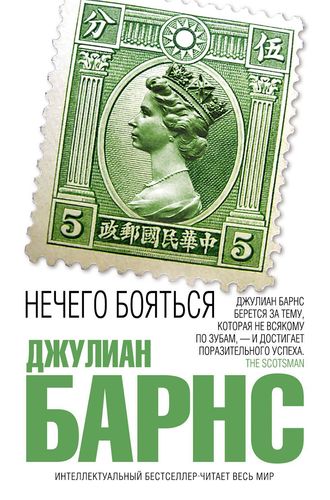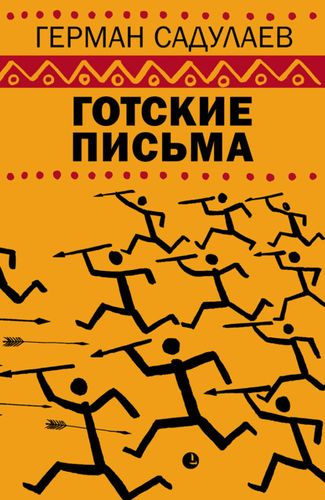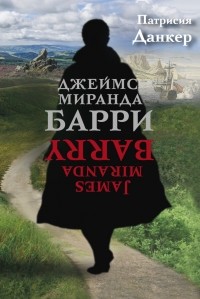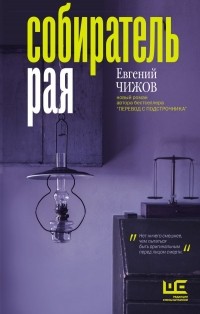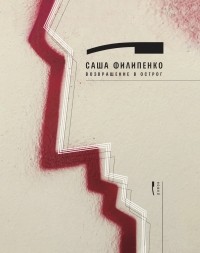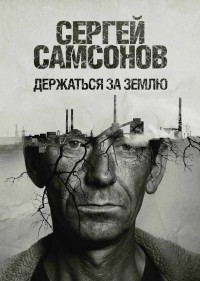Дмитрий Данилов «Саша, привет!» (2021)

Смотрите на мир с лицом попроще — основная мысль, возникающая при чтении с виду непривычного по содержанию произведения. Читатель не сразу поймёт, как ему воспринимать творение Дмитрия Данилова. Это гимн необходимости введения смертной казни? Призыв к гуманному отношению с преступниками? Это альтернативная реальность? Быть может автор подверг восприятие действительности через абсурд? Или Дмитрий излишне вольно шутит? Смотрите на мир с лицом попроще. Не воспринимайте данный труд через внутреннюю боль. Вам необходимо расслабиться перед чтением. Вспомните, мир наполнен несуразными вещами, смотря на которые не знаешь — плакать тебе или смеяться. Данилов лишь предложил читателю взглянуть на реальность с другой стороны. Задумайтесь, кому на самом деле вы вверили собственные жизни. Как раз тому бездушному Саше, способному в один момент прекратить ваше существование.
Читатель с первых строк не понимает, почему главного героя осудили на смертную казнь, почему он не стал возражать. Его осудили не за измену, а за связь с двадцатилетней девушкой. Осудили обыденно, словно главный герой позавтракал, пролистал свежие сообщения в социальных сетях, отправился на суд, пообедал, продолжил жить в ожидании неизбежного. Наказан заслужено: таково его личное суждение. В дальнейшем Дмитрий проявил изрядную долю фантазии, дав зачин в виде антиутопии, сведя его в жанр утопии. Главному герою позволено жить в подобии отеля, проводить время, как ему заблагорассудится, с одним обязательством — несколько раз в день выходить на прогулку. Одного он не знает, когда смертная казнь будет приведена в исполнение, и умрёт он в «счастливом» неведении.
Как такое содержание должен понимать читатель? В меру собственной к тому способности. И желательно с лицом попроще, не выискивая в тексте ничего, что он не сумел бы примерить на самого себя. Нет необходимости размышлять, как такая ситуация стала возможной. Этого не требуется. Дмитрий дал исходные данные, которые надо принять за неизбежное. Почему бы подобному развитию событий не случиться? Человек XXI века итак находится в плену, проживая жизнь, выходя на прогулку два раза в день, не задумываясь, где его может поджидать тот самый бездушный Саша. Не всем суждено вернуться обратно домой. И эта данность понятна каждому, стоит посмотреть, сколь быстра и неминуема смерть, находящая людей в неожиданных местах. Главному герою гораздо легче, он знает, смерть его обязательно настигнет, пусть и неизвестно когда.
Единственный укор автору — обилие бесед с религиозными деятелями. Понятно, Данилов создал такую ситуацию специально, только их допуская до главного героя, запрещая в «отеле для ожидания» разговаривать практически со всеми прочими. Это позволило расширить повествование, не измышляя ничего сверх, удерживая повествование в рамках. Ставилась необходимость понять и осознать смертельный исход за совершённый проступок. Когда такие беседы затягивались, Дмитрий разбавлял повествование прочими абсурдными ситуациями, сильнее убеждавшими читателя, что перед ним именно утопия.
Как же теперь быть? Будем считать, Дмитрий Данилов дал понимание необходимости принимать неизбежное, благодаря чему существовать становится гораздо легче и приятнее. Ведь мог главный герой выступить против системы. Однажды он так и поступил, после чего был обласкан. Любое его неповиновение приводило к более мягкому отношению. Читатель даже может усомниться. Но вспомните ещё раз — перед вами утопия! Пусть бесчинства творятся за чертой оправдания в каком-нибудь «Заводном апельсине». Мы будем стоять за гуманизм, ибо ничто человеческое нам не может быть чуждо.
Автор: Константин Трунин