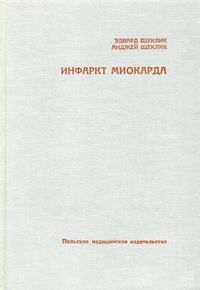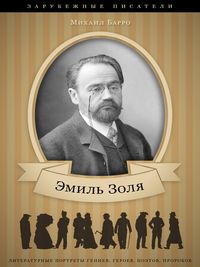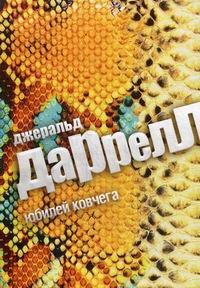Иван Лажечников — Переписка с Пушкиным (1831-35), «Моё знакомство с Пушкиным» (1856)
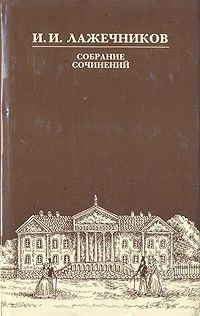
В 1819 году Лажечников впервые встретился с Пушкиным, когда тот готовился к дуэли с Денисевичем. Понимая талант сего человека, Иван не мог допустить, чтобы поэт погиб от руки недостойного. Он предпринял всё возможное, дабы призвать стороны к благоразумию и разойтись без обмена пистолетными выстрелами. Так и случилось. Факт кажется примечательным прежде всего для самого Лажечникова, так как в перечне из двадцати семи назначенных дуэлей кажется и вовсе незаметным. В том же 1819 году Пушкин трижды выходил на дуэль, стреляясь лишь однажды. Вполне вероятно, что солнце русской поэзии могло умереть именно от дуэли с Денисевичем, поэтому Иван до конца жизни хранил тёплые воспоминания о собственном поступке, продлившем годы Пушкина.
Их дружба носила характер редких встреч. Они не находили возможность пообщаться с глазу на глаз. Вернее будет говорить, что Пушкин совсем не стремился сближаться с Лажечниковым, не питая к нему особых чувств. Доказательством тому служат письма, где ясно говорится о невозможности найти время. Хотя Пушкин и бывал в тех местах, где жил Иван. Он каждый раз ссылался на обстоятельства, порою совершенно надуманные, лишь бы найти причину для отказа от встречи.
Лажечникову было важнее получить от Пушкина признание в качестве писателя. Он хотел отправлять ему один из романов частями, получая лестные отзывы. Известно, насколько Пушкин стремился снизить градус противоречий, находя добрые слова для характеристики данному ему для прочтения произведения. Он отметил певучесть языка, что особенно ценно, когда говорит от лица поэтически настроенного человека, но осудил низкую историческую достоверность, поскольку сам стремился к отражению реального положения дел в сочиняемых им произведениях. Впрочем, Пушкин сам работал в разных жанрах, согласно бытовавшему тогда в литературе разнообразию в выборе сюжетного наполнения, основанного на различных вкусах читающей публики.
Беседа двух писателей — всегда борьба взглядов. Не видят они точек соприкосновения, обязательно имея разные представления. В качестве разъединяющего фактора послужило творчество Тредиаковского, противного Лажечникову из-за кажущейся ему лживости. Пушкин же, наоборот, не стремился очернять представителей пишущей братии, обязательно находя положительные стороны их творчества, как некогда поступил и с Иваном, дав ему в меру лестную характеристику, и поныне приводимую в качестве основного критического взгляда современника, разумно подошедшего к осмыслению исторической беллетристики Лажечникова.
Теперь, спустя тридцать шесть лет, Иван вспоминал о минувших годах, отдавая должное Пушкину, ценя его во всём, даже несмотря на общее охлаждение общества, в связи с николаевским запретом едва не забывшего творчество Александра Сергеевича. Но стоило Николаю I умереть, как имя Пушкина снова появилось на устах, требующее принесения некогда так и не высказанных почестей. Среди таковых оказался и Лажечников, сообщивший читателю о событиях знакомства с Пушкиным и о некоторых фактах из их совместной переписки.
Несколько незначительных фактов стали важными для общего понимания творчества не только Пушкина, но и самого Лажечникова. Вполне вероятно, что Иван испытывал на себе недовольство общества, уставшего от его романтических представлений. Читательской публике казалось необходимым похоронить литературу прошлых лет, ежели она не соответствовала требованиям современного для неё дня. Если где-то романтизм продолжал будоражить умы, то литература России успешно сделала шаг вперёд, наконец-то отвязавшись от тенденций западной литературы, совершив качественный шаг, показав требуемое направление для дальнейшего развития. Куда, к слову, вскоре устремятся и европейские писатели, пока ещё продолжавшие жить убеждениями прошлого.
Автор: Константин Трунин