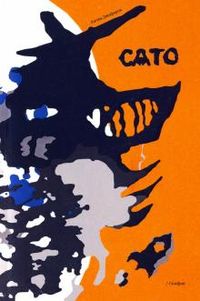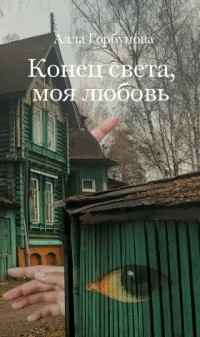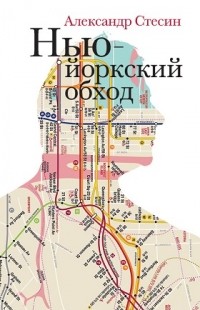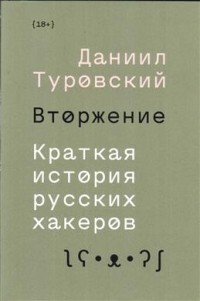Полина Барскова «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (2020)

Полина Барскова взялась за раскрытие темы блокадных поэтов. Каким образом они оказались в Ленинграде, почему вовремя его не покинули, как именно на их творчестве сказались обстоятельства военного времени? Невзирая на прилагаемые усилия, читатель мог самостоятельно понять, какие проблемы больше всего беспокоили людей тех лет. Поэты ничем не отличались от сограждан, подверженные тому же голоду и прочим лишениям. Другое дело, в каком тоне о том будет повествовать непосредственно Полина Барскова. И читатель ничего другого не видит, кроме осуждения. Не людей! Осуждения обстоятельств, вследствие которых блокада стала возможной. Наглядной вводной является эпиграф из творческих изысканий поэтессы Натальи Крандиевской про омывшую их седьмую щелочь, отчего отныне радует каждая мелочь. И пусть поэтесса выразила боль от перенесённых страданий, Полина Барскова увидела в том возможность войти в мир людских мучений, на собственный лад трактуя тогда происходившее.
Но как справиться с мнением очевидцев? Они никого не укоряли. А если и укоряли, тех стихов найти не сможешь. Те стихи сгнили где-нибудь в земле, из опасения спрятанные от чужих глаз. Не в первый и не в последний раз подобное случилось. Очень часто писателям приходилось расставаться с текстами, спасёнными, и при этом безвозвратно утраченными. То и не важно. Барскова смотрела на аспекты творчества. Полина не отметила отличия хотя бы в чём-то. Если поэт был детским до блокады, он им оставался впоследствии. Ничего не менялось в манере изложения, и проблематика ставилась исходя из прежних представлений о необходимости излагать определённым образом.
Другой аспект — стихи писали в блокаду или после? Складывается ощущение, впоследствии поэты вспоминали ими пережитое, всё ими испытанное. Опять же, учитывая эпиграф от Натальи Крандиевской, видишь понимание проблем прошлого при полном их осмыслении. Можно сказать даже, самого стихотворения хватило бы полностью для понимания, нежели создавать по его мотивам целое исследование, вроде «Седьмой щелочи» от Полины Барсковой. Читатель мог узнать про оберегаемые угли, малые кусочки шоколада, тревожные звонки и постоянный интерес, живы ли ещё те, кого ты знаешь. Оставалось взвесить счастье, твёрдо уверившись, насколько оно истрёпано, никогда уже не способное стать весомее.
И без всего этого читатель твёрдо знает, через какие испытания прошли люди. Помимо голода они могли погибнуть под бомбами, от удара другого человека, решившего покуситься на чужое имущество. Знает читатель, что не всё было настолько плохо, если имелись требуемые для выживания связи. Иные блокадники вовсе не ощущали голода, всегда имевшие доступ к продовольствию. Да вот писали бы о том поэты тех лет, место тем стихотворениям в схроне под землёй. По крайней мере, так желается думать читателю.
Значительную часть «Седьмой щелочи» занимают сами стихотворения блокадных поэтов, написанные непосредственно в военные годы. Между ними размышления Полины Барсковой. Вполне можно было оставить только стихотворения, разыскав более показанного. Читатель без лишних слов мог понять ему сообщаемое. Только вот тогда сборник пройдёт мимо внимания, ставший одним из многих написанных. А так получилась авторская интерпретация, к тому же с замысловатым названием, многими приводимое с ошибочным включением буквы «Ё». Нет, со словом «мелочь» рифмоваться может лишь «щелочь». Останется ответить на вопросы: почему щелочь седьмая, где про неё читала Наталья Крандиевская? Безусловно, можно домыслить, взяв пример с Полины Барсковой. Этого мы делать не будем. Посчитаем, каждый обладает достаточным уровнем интеллекта, чтобы понять самостоятельно.
Автор: Константин Трунин