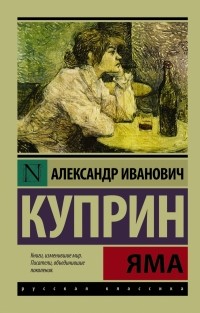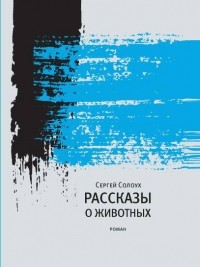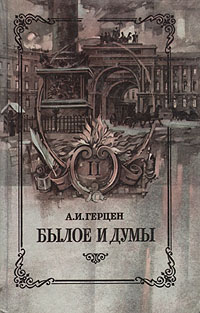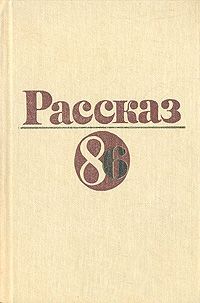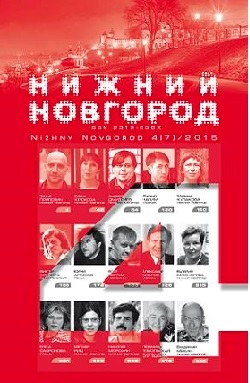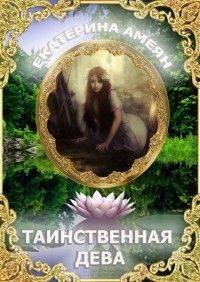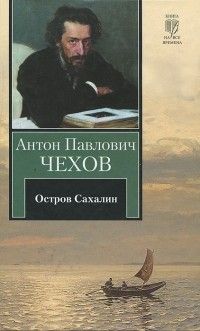Игорь Христофоров «Страх» (1997)
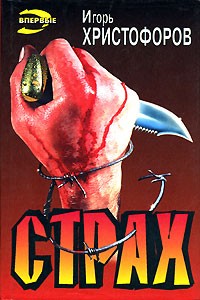
Девяностые годы: ослабленная Россия, внутренняя борьба, преобладание криминальных сюжетов в литературе. Что видят — о том и пишут, как краткая характеристика для авторов-современников тех событий. Случались налёты на инкассаторов и даже доходило дело до террористических актов. Это кажется понятным. Только стоит сменить фокус восприятия, и окажется, что подобная криминогенная обстановка на российскую художественную прозу оказывала непосредственное влияние, а вот в западной литературе, где подобного быть не должно, читатель находит эмоциональную разрядку от аналогичных рассказанных историй, откровенно нафантазированных. Почему бы не рассматривать вариант экспансии русскоязычных литераторов на прилавки книжных магазинов Франции и США? Ведь в их произведениях всё присутствует в требуемых пропорциях.
Игорь Христофоров пишет о теракте, должном произойти, если требования террористов не будут выполнены. В их руках опасное оружие, которое они могут применить и внести сумятицу в жизнь всего населения планеты. Их аппетиты ограничиваются малым, и деньги играют лишь второстепенную роль. Преступник всегда остаётся человеком, какими бы способами он не добивался желаемого. Он всегда действует ради определённой цели, более для него важной, чем осознание права существовать всех остальных. Вот Христофоров и подводит читателя к понимаю этого, медленно разворачивая детективную составляющую произведения. На первых страницах происходит ограбление и побег, а затем всё складывается в единое целое.
Да, тему Христофоров выбрал спорную. Может читатель и поверит в предлагаемые им для террористов методы борьбы. Пусть грядущий теракт и подготовка к нему идут в качестве фона, важнее осознание способностей российских спецслужб, готовых наносить предупреждающие удары и действовать изнутри. Ещё важнее портреты людей, ратующих за спокойствие сограждан. Несколько людей с ответственным подходом будет постоянно находиться перед читателем, включая их слабости: кто-то коллекционирует зажимы для галстуков, а кто-то переживает за оставленного дома кота. Христофоров использует подобные мелочи, позволяя читателю не столько внимать развитию событий, сколько видеть в описываемом близость к реальности.
Когда речь о терроризме, то странно видеть в центре повествования кота, чья шея болит и не даёт ему спокойно ожидать хозяина. Казалось бы, Христофоров пишет не о том, чего хочет видеть читатель. Впрочем, читатель всё равно не знает, чего ему хочется. Поэтому симпатии кот начнёт вызывать непроизвольно, тем более учитывая обстоятельства, имеющие важное значение для сюжета. Христофоров вообще не пишет лишнего — всё в тексте взаимосвязано и последовательно становится понятным, даже если сперва и возникало чувство неприятия.
«Страх» имеет чёткое разделение на две части. В первой ведётся расследование и подготавливается план мероприятий, дабы обезвредить преступников и не позволить осуществиться их замыслам. Вторая часть перенасыщена действием, но градус восприятия значительно снижается, поскольку основное уже произошло и надо следить за развитием предсказуемых событий. И тут Христофоров удивляет, дополняя события курьёзными сценами и приводимыми фактами из разряда познавательных.
Радует, когда писатель верит сам и позволяет верить героям своего произведения. Действующие лица сохраняют позитивный настрой при имеющихся трудностях. Им не платят зарплату — они продолжают работать. Им обещают улучшение условий — они надеются на это. Если произойдёт неприятность — она будет устранена. Потому и держаться люди друг друга, ибо без веры утонут, а так хотя бы плавают на поверхности.
Непоправимое может произойти в любой момент. Очень трудно чужие замыслы заранее распознать. Конечно, Христофоров не везде строит повествование правдоподобным образом. Но люди привыкли верить, что всё легко исправить. В настоящей жизни обезвредить опасность всегда проблематично.
Автор: Константин Трунин