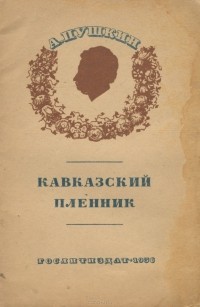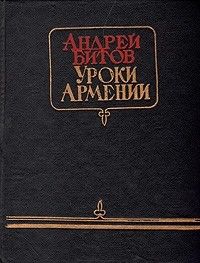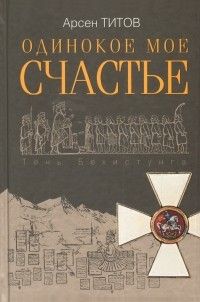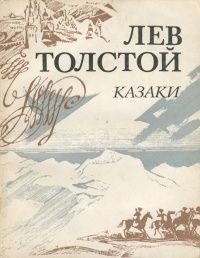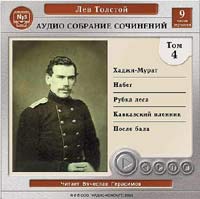Лев Толстой «Рубка леса» (1852-54)

Читатель волен спросить, что подразумевается под рубкой леса? Для каких целей понадобилось производить данное действие силой кавказских военнослужащих? Углубление в тему даёт следующее представление. Противостояние кавказских народов Российской империи становилось преобладающим за счёт густо растущих деревьев на больших площадях. Чтобы с этим справиться, Ермолов дал указание вырубать лес, формируя таким образом широкие просеки. Первая просека была прорублена в 1826 году, доказав эффективность задуманного мероприятия по ослаблению чеченцев. На годы службы Толстого прореживание леса продолжалось, он стал свидетелем, каким образом это происходит. Но насколько важной для очередного повествования стала именно рубка леса? Лев сомневался, долго определяясь с названием. Изначально задуманный «Рубкой леса», рассказ сменял названия на «Дневник кавказского офицера», «Записки фейерверкера», по итогу изданный под первоначальным вариантом, сопровождённый пояснением — «Рассказ юнкера».
Причины расхождения становятся понятными, когда читатель знакомится с содержанием. Работая над «Отрочеством» Толстой счёл за допустимое писать эпизодическую прозу. Давалась она ему с прежним трудом. Лев не мог понять, о чём именно следует рассказывать. Вместо ладного повествования предлагал читателю изыскания на тему личных наблюдений. Зачем потребовалось разделять военнослужащих на разные типы, отделяя одних от других? Вроде покорных, начальствующих и отчаянных, а далее на покорных хладнокровных, покорных пьющих и покорных хлопотливых, начальствующих суровых и начальствующих политичных, отчаянных забавников и отчаянных развратных. Или Лев считал за необходимое найти идею для продолжения повествования? Всё-таки он планировал писать дневник, либо записки, кавказского офицера или фейерверкера. А может эта особая черта некоторых писателей, ставших впоследствии классиками, когда требовалось описывать типы различных людей, изредка придумывая для них аллегоричные образы.
Но основное в повествовании — рубка леса. Это становится хорошей возможностью посмотреть на окружающее пространство в относительно спокойной обстановке, а для Толстого — удобным случаем рассказать о природе и нравах Кавказа. В «Рубку леса» частично вошли наброски из другого неоконченного рассказа «Поездка в Мамакай-Юрт». Скорее всего Толстой просто сплетал повествование из разрозненно составленных воспоминаний. Знакомясь с которыми, не сильно удивляешься, встречая неуместные куски текста, как в случае с классификацией по типам. Читатель опять отмечал для себя уже усвоенное по «Набегу», если Толстой считал рассказ за оконченной произведение, он его дописывал. Представленная вниманию рубка леса сама по себе являлась действием, имеющим начало и окончание. Оставалось только придумать, о чём написать между.
Несмотря на прошедшее время с написания «Детства» и на несколько последующих лет, слог у Толстого оставался без изменений. Читатель волен отметить некие улучшения. Может даже возвысить творческие усилия Льва. Только всего этого не случилось. Пусть Толстого робко хвалили, допускали до печати, и сам Толстой привлекал к себе внимание, посвящая «Рубку леса» Тургеневу, на молодого литератора не могли смотреть с ожиданием от него чего-то примечательного. Причины того казались очевидными — Лев писал о собственных воспоминаниях, не добавляя в содержание художественности. Сколько он сможет ещё упомнить, учитывая прожитые им от силы двадцать шесть лет? Ещё не появилась мысль зрелого человека. И вот теперь читатель знакомился с «Рубкой леса», к тому же подписанной как Л.Н.Т.
Читатель так и понимал — ему представлено живописание с натуры. Ознакомиться с происходящим на Кавказе всегда было интересно. А тут ещё и рассказано с задором, к тому же с классификацией по типам. Появится повод поговорить об армейских буднях, и причина найти несоответствие с собственными представлениями.
Автор: Константин Трунин