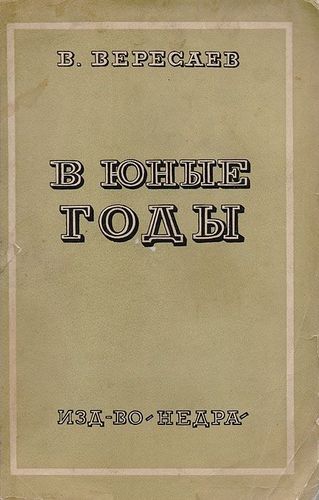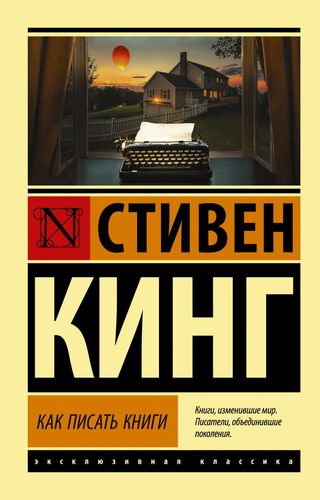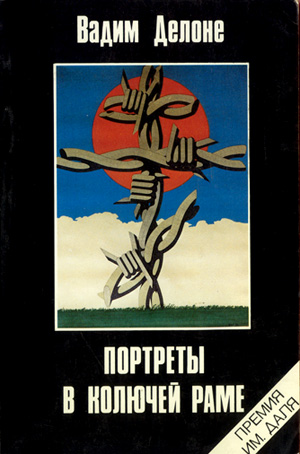Максим Горький «Как я учился» (1918, 1922)

Бурная революционная пора требовала людей, способных говорить с трибуны. О чём мог рассказать Горький? О самом для него главном — о том, какое влияние на человека оказывают книги. Если бы человек в России не учился читать и писать, быть ему и далее зависимым от обстоятельств. И вот Горький вышел на митинг двадцать восьмого мая 1918 года, изложив точку зрения на методы, благодаря которым каждый может напитать свои чувства и разум. На следующий день речь была опубликована в газетах «Новая жизнь» и «Книга и жизнь». К 1922 году Горький дополнил ту речь, опубликовав отдельным изданием.
Что можно узнать из текста? К грамоте Горького приобщал дед. Но не просто учил читать, он делал это в духе старых традиций, поставив за цель чтение Псалтыря. Но как учиться? Буквы назывались не абы как, имея сложную для запоминания структуру, сами по себе наполненные смыслом. То есть нужно было запомнить их в качестве «аз», «буки» и «веди», чтобы потом путаться в попытках прочтения слов. Горький придумал целую систему, когда буквы запоминал отличным от их изначального названия способом. И порою даже забавлялся, разбирая слова на составляющие буквы, произнося по им придуманной схеме. К чему это приводило? За непослушание дед порол нерадивого ученика.
Сложнее стало постигать грамоту при чтении непосредственно Псалтыря. С трудом освоив современные для того времени буквы, приходилось знакомиться с буквами, уже вышедшими из общего употребления. Зачем такие трудности? А может таким образом их понимал Горький, далёкий в предположениях от изысканий будущих поколений, продолживших придумывать сложности для постижения науки. Всё это стало причиной отвращения к чтению. Становилось понятно, из-под палки мил не будешь. Человек должен сам быть заинтересованным в постижении для него желаемого.
Значительный вклад в привитии любви к чтению остался за сказками Андерсена. Позволив себе совершить покупку книжки, получил от матери нагоняй за нецелесообразную трату. Это уже не имело значения. Горький прикоснулся к интересному чтению, после чего проникся желанием читать всё больше и больше. И как понять, в какой момент происходит перелом в миропонимании, если намечается переход от чтения сказок к серьёзным литературным работам, затрагивающим сложные для общества процессы? Горький особо выделил эту грань, указав, насколько опасными становятся некоторые книги, всерьёз воспринимаемые за способные повлиять на сознание человека, перестроив ход мыслей на совершенно другой лад. Пусть сам Горький понимал, как сложно сбить с намеченного пути, какого рода информацию не сообщай, но он же должен был знать — насколько эта грань иллюзорна, вовсе не подвластная осмыслению. Другое дело, власть может контролировать нежелательное к усвоению, вплоть до карательных мер к посмевшим прикоснуться к запрещённым ею текстам.
Но каков основной рецепт чтения? Чем больше человек усвоит материала, тем шире будет познание мира. Ограничивая знакомство человека с литературой, можешь спровоцировать на неправильную модель поведения. Человек обязательно подумает: если нечто запрещается, значит в нём есть важное. Но прочитай человек все точки зрения по интересующему его вопросу, он лучше сможет сформировать видение ситуации. Хотя Горький и говорил о том, что в книгах сокрыто всё знание мира, нужно обязательно дополнить и очевидным обстоятельством — общество можно воспитать на определённой литературе, исключив всю нежелательную. Главное, не создать ситуацию, которая породит бунт. Впрочем, модели общественного поведения всегда сложны, и порою зависят от никем не учитываемых обстоятельств.
Автор: Константин Трунин