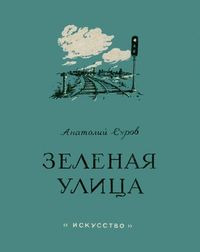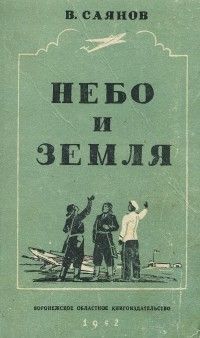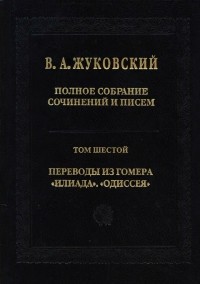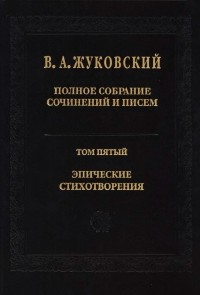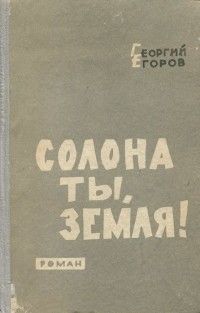Жорж Зайко «В когтях двуглавого орла» (1962)
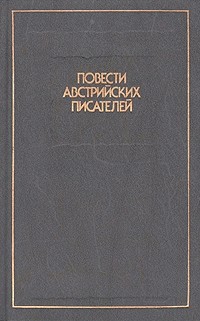
У каждой страны собственная история, которая лучше всего понимается теми людьми, для кого она является родной. Если в России или Соединённых Штатах Америки определённые представления о былом, то аналогичная история у Австро-Венгрии, разве только с тем отличием, что от былого величия ничего не осталось. Некогда империя, теперь соседствующие друг с другом территории — вот характеристика современных государств, чьи земли прежде входили в состав Австро-Венгрии. Но всему приходит начало и конец. Причиной развала империи стало чрезмерное этническое разнообразие, где каждый народ стремился к обособлению, претендуя на право считаться титульным. В подобном случае кризис всегда неизбежен, отдаляемый до той поры, пока находящиеся у власти не утратят доверие населения, из-за чего и последует крах.
Австро-Венгрия — не единственная империя, утратившая значение по итогам Первой Мировой войны: настал конец для Османского владычества, рухнула царская Россия. При этом турецкий народ сумел сохранить влияние в ближайших регионах, а Советский Союз и вовсе отделался незначительными территориальными потерями. Чего не скажешь об Австрии, с того периода воспринимавшаяся за осколок Священной Римской империи, после за часть Германии, лишь затем обретя право на подлинную самостоятельность. Так рассуждая, обязательно осознаёшь, насколько можешь заблуждаться, так как лучше самих австрийцев не расскажешь.
Жорж Зайко повествовал об обострении противоречий в империи. Никто в государстве не понимал, зачем и для чего воевать на полях очередной крупномасштабной войны. Случился 1914 год, императором продолжал быть Франц Иосиф, правивший уже долгие шестьдесят шесть лет. Может из-за проводимой им политики, либо в результате последовавшего осмысления через половину века, а то и по причине периодически вспыхивавших революционных порывов, случавшихся повсеместно в европейских странах, никто не соотносил себя с империей настолько, чтобы видеть наличие общих интересов.
Если австрийцы с венграми имели общее представление о необходимости сосуществования, то представители славянских народов вступали с ними в основное противоречие. Терялся смысл во взаимном уважении, если каждый скрипел зубами, стоило понять причину заносчивости, когда хорваты или чехи высказывали личные суждения, порою полностью противоположные. А ежели всем разом оказаться в имперской армии, противоречия только усилятся. Вот потому Австро-Венгрии следовало избегать участия в Первой Мировой войне. Однако, принято считать, будто убийство эрцгерцога Франца Фердинанда (наследника Франца Иосифа) послужило причиной развязывания войны.
Можно думать, якобы внутренние дела империи не касались Европы. Впрочем, политика Австро-Венгрии привела к росту числа этнического разнообразия в государстве, вследствие чего начали возникать террористические организации, член одной из которых и убил Франца Фердинанда. Только об этом лишь желал повествовать Жорж Зайко? Больше он стремился показать, насколько неприятно ему думать о военных действиях. На страницах произведения появляются ужасы войны, живо описанные в натуралистической манере. Отчего читатель должен был понять, насколько бессмысленна любая война, особенная такая, когда нет цели у солдат, скорее готовых свести счёты друг с другом, нежели действовать против номинального противника.
Проблема восприятия сменяется другой проблемой восприятия. Продолжи Жорж Зайко повествовать, нашёл бы ещё больше причин, почему империи следовало быть разрушенной. Нельзя жить в государстве, постоянно претендующем на осуществление проявления безнаказанной привычки властвовать. Как бы не были велики аппетиты, прирастать новыми территориями крайне опасно. Да разве могло иначе быть в случае Австрии? Расположенная практически в сердце Европы, не имела другого способа расти и развиваться, кроме как укрупнения за счёт земель соседних с нею народов, способных на стремление точно к тому же.
Автор: Константин Трунин