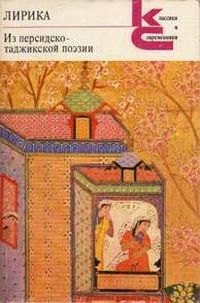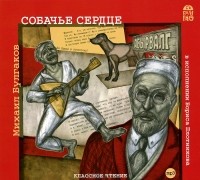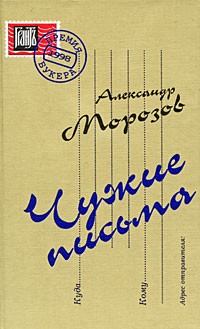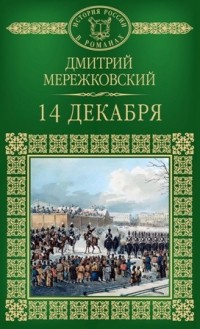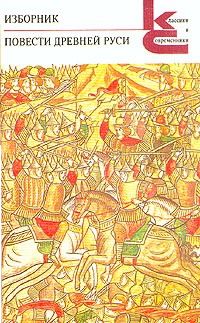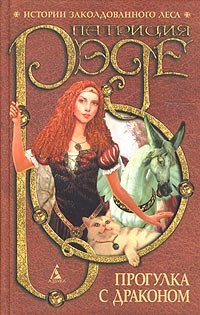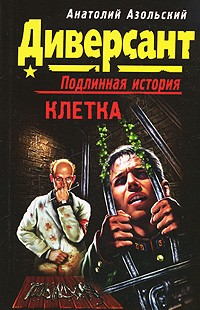Райдер Хаггард «Жемчужина Востока» (1903)
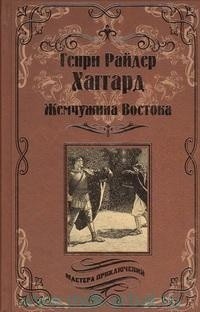
Прошло пятнадцать лет со дня казни Иисуса Христа, чья смерть продолжала будоражить умы единиц. Римское общество было обеспокоено другими проблемами, а именно склонностью населения Иудеи к проявлению актов неповиновения, приведших к восстанию евреев и его жестокому подавлению Титом Флавием Веспасианом, сыном императора Веспасиана. Такова сюжетная канва романа Райдера Хаггарда «Жемчужина Востока: Сказание о падении Иерусалима». Главной роли в котором удостоилась красавица Мириам, чьи испытания начались сразу после рождения, когда она потеряла мать в результате кораблекрушения, и продолжались до обретения ею промежуточного положения счастья, преодолев к тому моменту ряд жизненно опасных ситуаций, к которым относится и прямое участие в военном противостоянии между Римом и Иудеей.
О данном военном конфликте лучше прочих рассказал непосредственный их очевидец — Иосиф Флавий. С помощью его трудов некоторые беллетристы в угодной им манере отразили разнообразные сюжеты. Хаггард взялся за любимую тему раскрытия перед читателем жизненного пути ещё одной красавицы, ради которой мужчины готовы совершать безумства. Мириам допустимо назвать Яблоком раздора — настолько она была прекрасна, что откусить от неё кусочек был бы рад каждый из её видевших. Вне воли она пленила сердца многих, как опекавших её старейшин, так и простого еврейского мальчика Халева и любимца императора Нерона Марка Фортуната. Между двумя последними произойдёт основное драматическое сражение, должное пройти путь от предательских намерений до готовности жертвовать жизнью во имя любви.
Исторической правды в произведении Хаггарда искать не нужно. Трудно сказать, насколько он был правдив в изложении событий, но он подробно отразил беспокоившее тогда людей. За разговорами о христианстве и понимании Христа обществом в качестве преступника, Хаггард не упомянул о предпосылках готовящегося восстания. Если он о том и рассказал, то мельком. От счастливой жизни Мириам, вокруг которой кипели страсти ухажёров, читатель будет перекинут в пекло противостояния, в центре которого окажется башня с главной героиней внутри. На том счастливая жизнь закончится и начнутся страдания — война не способствует благополучию рядовых граждан. Отныне читателю предстоит наблюдать за новым взлётом Яблока раздора, кусочек от которого возжелают откусить уж не рядовые мужи, а вполне влиятельные люди, вплоть до приближённых к императору Веспасиану.
Красота должна губить её носителей. По крайней мере, так всегда случается в художественных произведениях. В действительности же иначе — красота дарует носителям огромные возможности, позволяя им легко добиваться того, чего прочие достойные таких же высот лишены, ибо они обречены на вечное прозябание в низах. Хаггард не стал чрезмерно унижать главную героиню, хоть и дав ей хлебнуть горя, он всё же предпочёл вывести на страницы подлинную Жемчужину Востока, чей блеск затмит умы и позволит главной героине выдержать испытания, чему поспособствуют и удачные стечения обстоятельств.
Удача от неудач — ещё один приём Райдера Хаггарда, позволявший ему портить жизнь главных героев, чтобы в последующем давать им надежду на благополучие, снова вносить неудачу и опять вести к удаче. Казалось бы, в описываемом мраке не может вообще быть речи о счастье, настолько много смертей присутствует на страницах произведения: казнённых действующих лиц представлено не меньше, чем было поставлено крестов на Масличной горе. Но жизнь не стоит на месте — от ошибок прошлого нельзя было увернуться. Значит не стоит хандрить о потерях, ибо человеку предстоит думать о существовании, а не пребывать в прошлом, поскольку память о прошлом никогда не давала человеку возможности не повторить ещё раз подобное в будущем, ибо он всё-таки снова и снова совершал прежние ошибки.
И будет счастье. Оно обязательно будет. Надо верить. Надо видеть счастье и в тех моментах, когда его нет. Оно всегда есть, какой бы горькой участи не удостаивался человек.
Автор: Константин Трунин