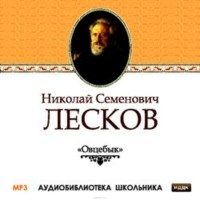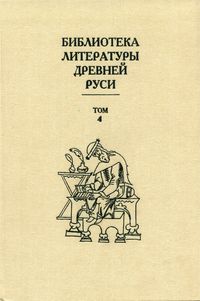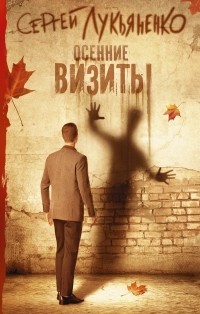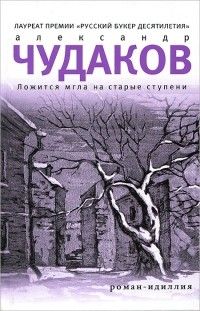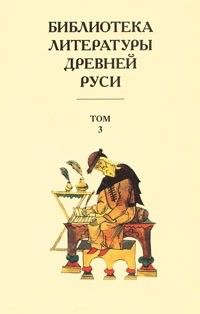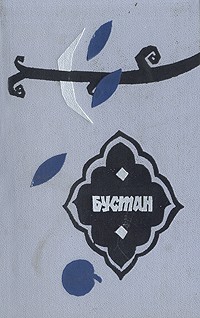Николай Лесков «Разбойник», «Язвительный» (1862-63)

Плохих времён не бывает — бывают распоясавшиеся люди. Кто взывает к жалости, говорит о неподобающем к себе отношении и ждёт чего-то от выше его располагающихся, такой человек пресыщен жизнью, иначе он должен был быть всем довольным. Желается увидеть пример такого мнения? Допустим, можно указать на рассказ Лескова «Язвительный». Говорите, крестьяне изнывали под игом крепостничества и желали его с себя скинуть? Отнюдь, для них стало истинным унижением освобождение от трудовой повинности. Оно настолько им опротивело, что в их сердцах вспыхнул бунт.
В одной местности в качестве управляющего поставили британца. Казалось бы, живи теперь и радуйся. Сделал дело — свободен. Не хочешь работать — стой и смотри на других. Никаких телесных наказаний за ослушание. Платят лучше заслуженного. А коли пожелаешь подработать в другом месте — тут уж извини, зарабатывать меньше тебя не отпустят. Своровать тоже не дадут, тебе итак должно хватать получаемых тобой денег. Малина — скажут люди. И что не устраивало людей в столь благоприятных условиях труда? Лесков, как всегда, без лишних комментариев сказывает об узнанном.
Посему, коли народ вздумает плавать в жиру, ничем хорошим это не закончится, так как нет к тому необходимости, чтобы железная воля становилась мягче. Остаётся думать, приведённый Лесковым пример всего-то случай. Так ли это? Насколько далёк проницательный взгляд Николая от действительности? Он наглядно отобразил то, что вызывает у читателя непонимание от случившегося акта неповиновения. Лучше жить уже было нельзя — никто и не хотел жить хорошо. Крестьяне требовали обыденного к себе отношения, будучи согласными оказаться на каторге, только не подвергаться унижению хорошей жизни.
Так сказывает Лесков. Он не обо всём договаривает. Мужик на Руси — создание бесхитростное. Но его помыслы не разгадаешь. Чего такому мужику надо — никогда не определишь. Как не поступай — всё равно окажется недоволен. Плохие ли условия или лучше некуда — понимание благости от того не изменится. Согласно Лескову, мужику подавай колодки на ноги, тиски на голову и цепи на руки, дабы он пребывал под полным контролем и не смел пальцем пошевелить без предварительного телесного наказания. Такой мужик даже мечтать не будет о свободе. Не странный ли нрав крестьян отобразил Лесков? Кажется, Николай снова вводит читателя в заблуждение, описывая людей не от мира сего.
Ранее «Язвительного» Лесковым написан рассказ «Разбойник». Главный герой сего произведения такой же крестьянин. Читателю не показываются условия его жизни, просто он шёл по дороге и встретил человека, тот попросил денег, чем напугал крестьянина, получив за это бревном по голове. Лесков не задумывается над мотивами поведения того, кто должен быть образцом добродетельного христианина. Ежели видишь кого ты в нужде, помоги ему. Не такового нрава люди у Лескова. В страхе своём они скорее убьют просящего, нежели дадут ему хоть кроху имеющегося.
Крестьянин таким образом и сказывал Лескову. Стыдно теперь крестьянину — взял он грех на душу. Тот человек мог и умереть. А что он был за человек? По виду солдат, уставший и оголодавший от многодневной ходьбы. Такому помочь — сделать богоугодное дело. Не стоит рассуждать, почему крестьянин не помог ему. Сей поступок никак нельзя оправдать. Потому он и пришёлся по вкусу Николаю — ценителю подобного рода неадекватных поступков.
Можно оправдать всех героев Лескова, если брать для рассмотрения каждого отдельно, но когда собираешь их в одном месте — желаешь обвинять.
Автор: Константин Трунин