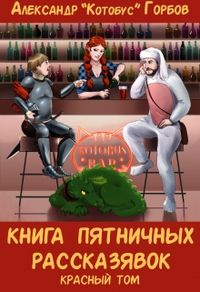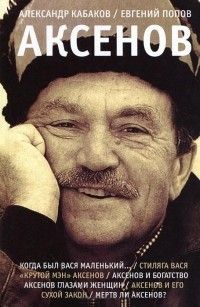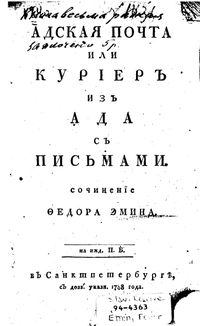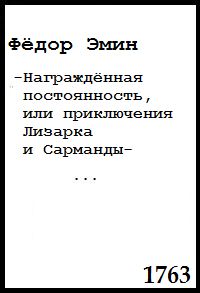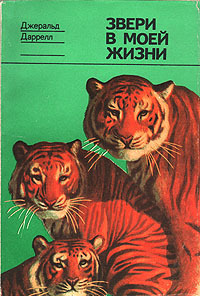Эмиль Золя — Письма (1858-60)

Мир полон возможностей, но нужно уметь распорядиться своей жизнью, дабы добиться благосклонности. Кем был Золя в восемнадцать лет? Мечтателем о лучшей доле. Он беден, сидел на шее у матери. Ему желалось получить образование адвоката и безустанно работать, лишь бы заработать на существование. Он писал пьесы и стихи, делясь ими с друзьями. На первых порах переписка Золя представляла общение с Полем Сезанном и Батистеном Байлем. Они принимали его многословие, отделываясь отписками. Эмиль их звал в Париж, они же сомневались, продолжая отказываться или сохранять молчание. Погружённый в одиночество, Золя ощущал пропасть, разверзшуюся под ним из-за отсутствия какого-либо таланта.
Диплом — ключ к жизни. Этой истиной старательно нагружают человека уже который век. Под действие этого заблуждения подпал и Эмиль. Хуже всего — необходимость найти призвание в будущей работе, для чего человек предварительно обучается. Разве мог Золя смириться с необходимостью каждодневного физического труда? Когда он в письмах предстаёт именно писателем, поскольку стремится много говорить, делясь с собеседниками обуревающими его чувствами. Ему требовалось изливать душу, пускай он не получит ответ.
В 1860 году Золя исполнилось двадцать лет. Он продолжал оставаться в подвешенном состоянии. Ему нравились «Опыты» Монтеня. Он увлекался Данте, Горацием, Шекспиром. Даже зачитывался Жорж Санд. Уже мечтал об утопическом обществе и статусе божества, отказывающегося от возносимого к нему почёта. Одно у него не получалось — зарабатывать деньги. Приходилось предаваться сочинению писем, открывая сокровенные фантазии, на удивление сохранившиеся.
Почему друзья не ехали в Париж? Сезанну Эмиль расписывал прелести столичной жизни. Можно копировать лучшие картины, зарабатывая на продаже реплик. Нужно каких-то восемьдесят франков, которых хватит на аренду комнаты, покупку художественных принадлежностей, посещение мастерской и прочие нужды. Золя был согласен посещать с Сезанном занятия по художественному искусству. Байлю он ничего предложить не мог, ибо этот друг склонял выбор в пользу математики. Где уж ему найти интересное времяпровождение в окружении маляра Поля и рифмоплёта Эмиля.
Впрочем, как раз Байль знакомился с мировоззрением Золя. Только ему сообщалась информация о представлении Эмилем окружающего мира. Золя едва ли не в каждом письме писал об одиночестве и сомнениях: вокруг него люди, а он как в пустыне. Он не видел красоты, принимая её за специально кем-то измышленное. Пройди мимо Венера Милосская, он бы в её существование не поверил. Не верил Золя и в способность музы прокормить его, поскольку он скорее умрёт от голода, нежели заработает первый франк. Ему оставалось согласиться на любую работу, какую только получится найти, лишь бы платили более тысячи франков в год.
Эмиль всё больше погружался в мир литературы. Он читал и старался анализировать. Мир пока ещё делился для него на чёрное и белое. Если и пытался творить, то ни на кого не обращая внимания — должно получиться своё, отличное от всего прочего. Он желал найти смысл бытия, этому посвящая им создаваемое. В душе продолжал оставаться поэтом, отдаваясь написанию поэм. В его словах встречались упоминания об ожидающих выхода книгах собственного сочинения. Он задумывался о псевдониме: имя Эмиль Золя не казалось ему серьёзным, дабы быть помещённым на обложку.
Внутренний критицизм Золя приводил к отрицанию собственного значения. К нему могли относиться негативно, что не сказывалось на нём. Важнее он считал личное отношение к определённым людям, в том числе и к друзьям, тем уже их всех приобщая к определённому кругу, которым следовало гордиться. Не ради себя, но сугубо избранных им ради. Ценность была не в дружбе Золя-Сезанн или Золя-Байль, а в том, что через Эмиля Поль и Батистен оказывались в определённых для них рамках хорошего общества.
Ничего из себя не представляя, Золя смел высказывать суждения о литературном творчестве. Одним из секретов является необходимость создавать новое, не обращая внимания не прежде созданное. Нет смысла править двадцать написанных стихотворений, если есть возможность написать несколько новых. Прошлое следует оставить прошлому, как бы за него не приходилось краснеть. Люди не рождаются идеальными! Идеальными они становятся в результате движения к цели таковым быть. Так зачем жить канувшим в Лету, ежели даже твоё лицо будут помнить не юным, а наделённым морщинами? А то и не вспомнят вовсе.
К концу 1860 года Золя закончил обучение и впал в уныние. Куда бы он не приходил, никто не брал его на работу. Он, как и ранее, соглашался на любые условия, но всё равно не встречал заинтересованность. И вот в таких условиях Эмиль продолжал находить отдохновение в мыслях о литературе. Он видел, как классицизм оказался вытесненным романтизмом: следовательно, вскоре появится до того невиданное. Золя ощущал наступление реализма на позиции утопающих в фантазиях писателей.
Данный год примечателен ещё и письмом к Виктору Гюго. Коротко, дабы не отвлекать внимание великого человека, Золя попросил оценить пару вложенных в письмо стихотворений. История хранит в тайне ответ титана романтической мысли.
Автор: Константин Трунин