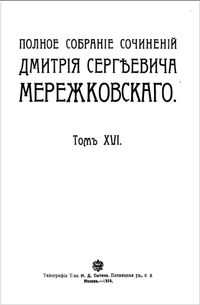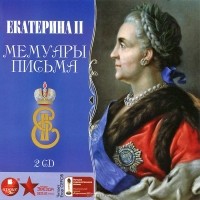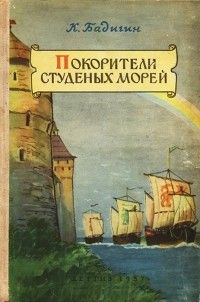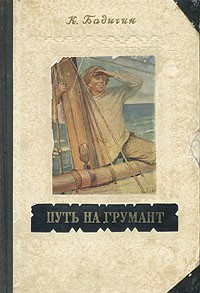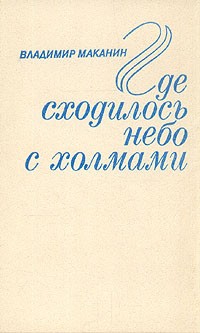Джеймс Хэдли Чейз «Неудачник» (1961)
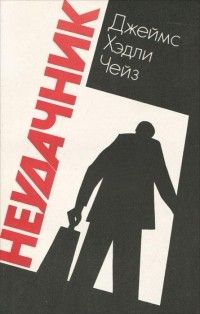
Жизнь сложна для понимания. Ещё сложнее она становится, если пытаться понять логику писателей, переворачивающих обыденные явления с ног на голову. Вроде бы Чейз представил вниманию порядочного репортёра, некогда вступившего в противоречие с вороватой властью, из-за чего оказался в тюрьме. Теперь он вышел и не может найти работу. И оказывается, от чего он прежде воротил нос, теперь для него является лакомым куском. Даже власть изменит к нему отношение, пригласив на работу в качестве специалиста по связям с общественностью. Вот так, без объяснения причин, честный человек превращается в продажное создание, готовое за пятьдесят тысяч долларов выступить в роли похитителя дочери одного из богатейших людей планеты.
Прежде совестливый, ныне герой повествования не разбирает дороги. Если ему будут предлагать — он не станет отказываться. Предложат деньги — возьмёт, поманит малолетняя красотка — утонет в её объятиях. Без разницы, насколько пострадает честная репутация. Ему не особенно интересны чувства жены, все эти годы безропотно ждавшей его освобождения. Но солидный куш манит совершить простецкое дело, а потом укатить в сказочное место и продолжить там безбедное существование. Впору вспомнить о шалаше, где рай с любимым человеком. Однако, Чейз прагматичен. Зачем читателю показывать иллюзию счастья, если право на лучшую жизнь нужно заслужить через проступки.
Обстоятельства будут против. Герой повествования — неудачник, он в западне, его допустимо назвать простаком. И он будет обманут. Причём жестоко. Он станет причастным к убийству, весьма предсказуемому. Ведь не бывает так, чтобы готовый скончаться богатей всего лишь умер, справедливо распорядившись наследством. Отнюдь, пока онкологическое заболевание поедает ткани его организма, кто-то решится вступить в большую игру, на кон которой поставлена неимоверно большая сумма денег. Но это всё впереди, и не так отчётливо проглядывается в сюжете.
Грех мастеров детективного жанра в неправдоподобности излагаемых событий. Обычно, отчего-то, всякое преступление оказывается легко раскрываемым, дай только тому время. Факты удачно сходятся, воссоздавая картину свершившегося. На читателя оказывается давление через подавленность главного героя, на каждой странице готового оказаться раскрытым. При этом обычно заранее понятно — ничего плохого не произойдёт. А ежели всё пойдёт по плохому сценарию, то так тому и быть. Достаточно знать, что истинный преступник будет изобличён, всё остальное — домыслы.
Конечно, действующее лицо в произведении Чейза совершит немало ошибок. Мысли он здраво, не случиться практически ничему, о чём в тексте сообщается. Допустим, зачем ему понадобилось грузить тело в багажник собственного автомобиля, когда кругом хватало иных возможностей? Вполне логично со стороны автора сломать данный автомобиль впоследствии, причём на глазах у полицейского. Чехарда ничем не примечательных эпизодов разбавляет повествование, тогда как главный герой оказывается в глупом положении по личной на то неосмотрительности.
Бесполезное это занятие — разбираться с деталями детективных произведений. Главное, читатель с удовольствием провёл несколько вечеров за книгой, получив эстетическое и моральное удовлетворение. Кроме того, следить приходилось не за очередным гением мысли, а за простофилей, совершавшим одну ошибку за другой. Как ещё удалось выйти сухим из воды? Пятно себе на репутацию он всё равно заслужил. И как итог — с чем он вышел из тюрьмы, с тем и продолжил жить дальше, так и не улучшив благосостояние.
В русском переводе данное произведение имеет множество названий. Вот их перечень: Неудачник, Западня, Ещё один простак, Ещё один простофиля, Клубок, Репортёр… Пресс-секретарь… Убийца?…
Автор: Константин Трунин