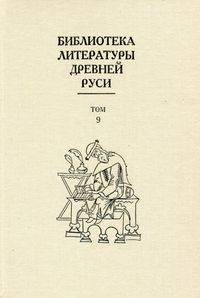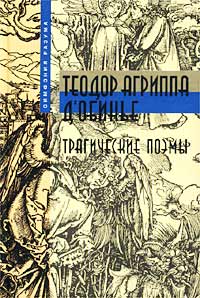Андрей Волос «Хуррамабад» (1989-2000)
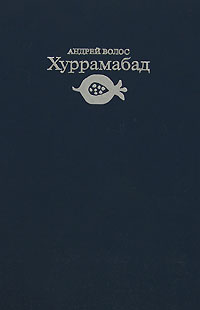
Людская ненависть неискоренима. Было бы из-за чего ненавидеть, как за пролитием крови дело не станет. Ярчайшее представление об этом — картина в прошедших через развал Союза советских республиках, чьё население вступило в острую конфронтацию по принципу свой-чужой. Ни в чём не уступало происходящему и ситуация в Таджикистане — особом регионе, толком самостоятельно никогда прежде не существовавшем, ставшем единым под властью коммунистической идеологии. Пусть исторические предпосылки вносили коррективы, однако приходилось считаться с действительностью — так к Узбекистану отошли близкие к персидской культуре Самарканд и Бухара. Что до таджиков, то они говорили на отличающем их от всего Союза языке — на таджикском, который скорее определяется в качестве окающего диалекта персидского. В результате народного недовольства в Таджикистане пострадать пришлось не только русским — под удар попали армяне и турки-месхетинцы.
Несмотря на этническое преобладание, таджики питали ненависть к населяющим их страну прочим народностям. Преимущественно то было связно с угнетением как раз таджиков. Волос без экивоков показывает рассуждения представителей местного населения, готовых снести преграды, лишь бы больше не терпеть власть над ними кого-то, кроме них самих. Это сразу становится очевидным, ведь в какую инстанцию Таджикистана не обратись, всюду начальником поставлен армянин. Причём нельзя отличить, чем армяне лучше бывших до того на руководящих постах турков-месхетинцев. Ненависть к русским Андрей показал на общем фоне, и их таджики убивали при вспышках недовольства действительностью. Хватало осознания присутствия чужого для Таджикистана человека, после чего рушилось всякое понимание о человечности — толпа таджиков превращалась просто в жадную до крови толпу, порой не способную понять, против кого направлена их агрессия: растерзанными могли быть и сами таджики, оказавшиеся на пути озверевших от ненависти людей.
К логическому осмыслению последствий развала Советского Союза лучше не обращаться. Достаточно осознания факта произошедшего. Иного быть не могло, поскольку одинаковые процессы происходили повсеместно. Человек всегда остаётся человеком, какой бы национальности он не был. Проще говоря, людей объединяет единственная черта — они часть животного мира, готовые бороться за ту часть территории, которую они считают своей. И пока продолжит сохраняться подобное отношение к границам — зверь останется в человеке. Это только в благоприятные годы все говорят о дружбе между народами и строят общие планы, тогда как достаточно малой трещины, чтобы картина предстала в истинном виде — на пустом месте разразится неутолимая жажда оспаривать право на собственную территорию, в том числе и опускаясь до подлинного геноцида.
Обо всём этом Андрей Волос старался рассказывать в «Хуррамабаде». Он выбрал форму рассказов, объединённых множеством однотипных тем — такой сборник называется романом-пунктиром. Начиная от представлений предков о светлом будущем, в том числе и допуская достижение советскими людьми коммунизма, читатель будет подведён к кровавой бойне, сотрясавшей таджикские города и селения. Чтобы после описания эпизодов отсутствия человечности в поступках людей, подойти к принятию наступивших последствий. Проблема развала Союза коснулась абсолютно всех, так как последовали волны миграций, которым мало кто был рад из жителей других регионов. Но ничего не поделаешь, приходится принимать людскую ненависть, не имеющую возможности угаснуть и позволить кому-то приходить туда, где ты нечто считаешь своим собственным, и более ничьим.
Тему Волос поднял действительно важную, несмотря на предпринятые попытки к её реализации. Конечно, Андрей был обласкан на высшем уровне — получил за произведение Государственную премию Российской Федерации. Но никто так ничего и не сделал, дабы подобного проявления людской ненависти не повторилось в будущем. Неважно где, но стоит быть задетыми чувствам какой-либо нации, как снова запылают людские сердца, обезличенные яростью состоящей из них толпы.
Автор: Константин Трунин