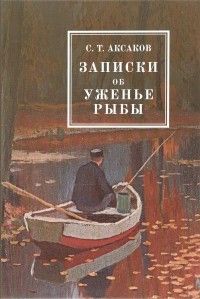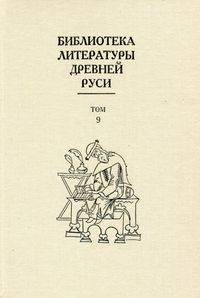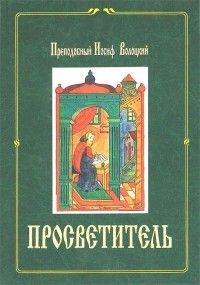Сергей Аксаков «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1849-52)
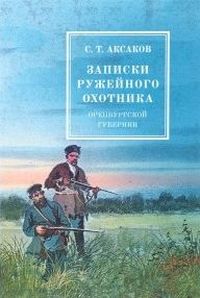
Быть охотником — не совсем то занятие, какое должно ассоциироваться с меткой стрельбой и радостью от сражённого на лету зверя. Отнюдь, охота — это, прежде всего, ремесло, необходимое для удовлетворения определённых потребностей. Одной из таковых является пропитание. Но чаще охота — полезное человеческой душе дело, направленное, в числе прочего, на регуляцию популяции диких животных. Только невежды думают, что чем меньше зверя бьёт охотник, тем лучше. Ведь известно, чаще под удар попадают больные и нежизнеспособные особи, тогда как здоровые продолжают здравствовать. Впрочем, во всяком утверждении следует оглашать оговорку, учитывая допускаемые охотниками крайности. Остановимся на том, что для Аксакова охота являлась приятным процессом, весьма важным и необходимым, продолжающегося от его предков и должная достаться его же потомкам.
Есть такая птаха — бекас. Подстрелить такую — искусство ловкого и умелого стрелка, поскольку сия птица мелка и быстра, что делает охоту на неё затруднительной. Было бы так оно в действительности. Таковые птахи бьются дробью на коротком расстоянии, чтобы за один выстрел сражёнными падали от трёх и более особей. Иные птахи, особенно из куликов, настолько мелки, что некоторые охотники хвастались едва ли не подстреленными за раз по сотне. Это лишь говорит о важности для охотника понимать, с каким ружьём и каким зарядом он пошёл бить птицу.
Помимо ружья, о котором Сергей сказывает изрядно, повествует он и о таких важных моментах охоты, как использование определённого вида собак и ловчих птиц. Если про собак он отзывается в добром тоне, понимая, иная собака сама рвётся на охоту, не получая оной, убегает, пытаясь сама заниматься заложенным в неё с рождения умением. А вот про ловчих птиц Аксаков отозвался плохо. Сугубо из-за того, что у башкир таковые были совсем ненадлежащими, будто и вовсе не способными выполнять от них требуемое.
Сергей разделил дичь на болотную, водоплавающую, степную и лесную. К каждой требуется особый подход. Требуется и знание выбираемой для охоты местности; и знание времени, когда та или иная дичь прилетает и улетает. Усвоив это, а также добыв требуемую, Аксаков неизменно обсуждал гастрономические пристрастия. Всё-таки, птица бьётся для приготовления годных из неё блюд. Иных птах разве только на паштет разделывать, другие годны и в цельном виде.
Говоря про степную дичь, Сергей осудил людей за выжигание травы. Может оно и несёт пользу для природы, зато для обитающей на местности живности — сущее бедствие. Среди многих птиц выделил Аксаков коростелей. Данная птаха примечательна манерой убегать от собак, тем ставя их в недоумение. Говоря же про лесную дичь, описал удивительное свойство тетеревов избегать попадания в них мелкой дроби. Такое свойство в них вложила природа. Оказывается, дробь скользит по перьям тетерева. Примерно тем же образом, как по перьям любой курообразной птицы. Ещё Аксаков разрушил миф о горлицах, будто бы бросающихся от отчаянии с высоты на камни, если гибнет их супруг. Ничего подобного за ними Сергей не наблюдал.
Напоследок читателю будет сообщено об охоте на зайцев. Это совершенно выбивается из общей канвы, посвящённой сплошь дичи. Но какой охотник обойдёт вниманием беляка и русака? А вот о совсем уж мелкой птице можно и не говорить, таковые совершенно ни для чего не пригодны — с ними больше мороки.
Таким образом, Аксаков подготовил для читателя два труда: первый — про ужение рыбы, второй — про охоту на дичь. И как-то неожиданно он в последующем решил перейти к составлению биографических очерков.
Автор: Константин Трунин