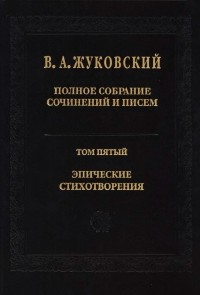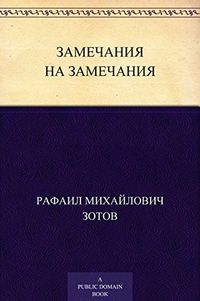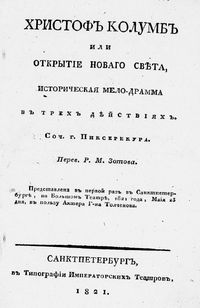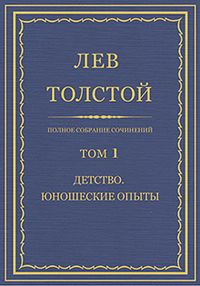Василий Жуковский — Из опыта перевода Илиады (1828-50)
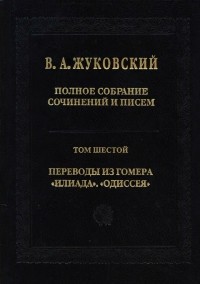
За Гомера браться не бойтесь, раскройте тему войны Троянской сполна. Ведь непонятно поныне, какой же была она — за Трою война. Не стояли всегда под стенами града ахейцы, то лишь последний эпизод. Кто ищет информацию о том — найдёт. Известно из мифов — терпела крушение Троя не раз. Отчего эпическим стал момент лишь в определённый час? Того Приама, что царём над Троей был, не кто иной, а сам Геракл на царство посадил. И за Елену так ли важно было устремлять движение вперёд? Одним словом, много открытий чудных читателя ждёт. А пока, для пущего осведомления, нужно понять, какие испытывал Жуковский впечатления.
В 1828 году он отрывками «Илиаду» переводит. Детской забавой он то действо находит. Не себе в усладу, сугубо для подрастающих детей, кому быть в числе русских царей. Создав шестьсот строчек, сей порыв благостный остановив, потом отложив и вовсе забыв. К 1846 году принялся за раскрытие темы большой — показать, какой была на самом деле Троянская битва войной. Задумал он объяснить суть конфликта, изучив его от начала до конца, но на сотой строчке стихов отказался от права считаться за сей истории творца. Так и закончилась «Повесть о войне Троянской», практически не получив начала, да и другого мысль Василия желала. Взялся он вскоре за «Одиссеи» перевод, который поныне читательского внимания ждёт.
В 1849 году вновь идея о переводе «Илиады» возникла, но годом позже снова погибла. Нашлись другие важные дела, только идея о замысле оставалась цела. Следовало найти силы и перевод завершить, чему уже не суждено оказалось быть. Как не брался Жуковский, всякий раз находил иные занятия. Можно подумать, перевод «Илиады» стал навроде проклятия. Таковы уж домыслы, коих не избежать. Но найдём, о чём по сему поводу сказать.
Сложность перевода, который планировал Жуковский осуществить, в читательском внимании, которого не может вовсе быть. Это поэту легко играть со словами, наслаждаясь чужими именами, воссоздавая на языке своём… поэтику иных стран и времён, используя тот же самый подход. А разве поэзия другой страны себя в той же мере за границей найдёт? Увы, гекзаметр, сколько не пытайся выдать его за допустимое, — нечто для понимания русского человека невообразимое. Нельзя толком донести, о чём пытаешься сказать. Как не говори, не станут тебя ни в коей мере понимать. Пусть пафос заметен, слышна напыщенная речь… Да разве не пойдёт корабль на дно, имея течь? В том и заключена сложность, о чём Жуковский должен был размышлять. К сожалению, где можно обойтись без рифмы — так он и предпочитал поступать.
Честно нужно сказать и о том, насколько Жуковский оказался зависим от складывавшихся обстоятельств. Особенно теперь, когда лишался приятельств. Ступал он на опасный путь, другим дорогу перекрывая, авторитетом одолеть одним желая. Ведь не мог Жуковский с оригинала переводить, вновь через переводы он пытался смысл к сложению стихов находить. Обращался и к русским переводам, благо такие появились. И всё же мечты поэта не осуществились.
За началом работы так продолжения и не случилось, Жуковского попытка перевода в архивах пылилась. Требовалось извлечь и показать… Разве? Будто без того талант поэта не могли потомки осознать. Не всякий замысел даётся осуществить, и с грузом этим надо дальше жить. В конце концов, что случается чаще всего — запомнят не по множеству созданного, а достоинства найдут, исходя из чего-то одного.
Автор: Константин Трунин