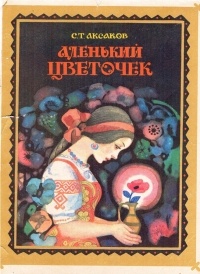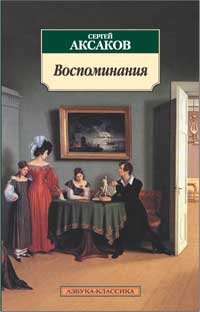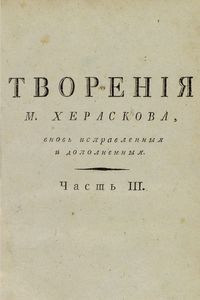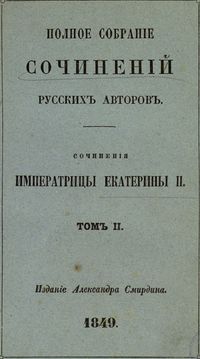Павел Мельников-Печерский «В лесах. Части III и IV» (1871-74)
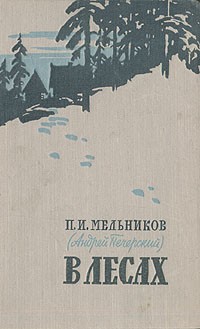
Прежде сказанное нисколько не изменяется, оставаясь тем же. Мельников продолжил писать, ожидая солидной оплаты за каждый отдельный лист. Для этого он щедро описывал особенности староверов, вне всякой меры углубляясь в детали. Понятнее от того они не станут. И для этого Мельников приведёт историю, озадачив пониманием, что особых отличий не имеется, всё сводится к разным образом исполняемым обрядам. Тогда какова суть рассказываемой истории? Её уже итак не осталось, поскольку читатель должен был запутаться, потеряв нить повествования. Сомнительно, чтобы Мельников вообще чему-то придавал значение, кроме необходимости наполнять текст ещё большим количеством слов. Заданный ритм он не нарушит и после поставленной точки. Впереди его ожидала работа над не менее масштабным произведением «На горах».
Некоторые суждения кажутся читателю надуманными. Порою Мельников принимался описывать такое, чему сложно поверить. Одним из таких моментов стало упоминание женской терпимости. Окажется так, что как не веди себя мужья — жёны всё стерпят. Ежели бросит и оставит на прозябание, так они и рады тому будут, ибо так лучше для мужа станет. Где это найти в тексте? Скорее следует говорить о выхваченном из повествования эпизоде, существенной роли ни на что не оказывающий. Впрочем, с таким суждением можно подойти к любой представленной на страницах сцене. Имеется лишь незначительное количество исключений.
Знает ли читатель, как тяжела доля сироты в поселениях староверов? Он становился хуже раба, всеми понукаемый и исполняющий прихоти каждого. Мельников с удовольствием описал страдания такого человека, сумев найти продолжение, более ему полезное, нежели просто отправить на армейскую службу и с тем закончить сказ. Кем мог стать сирота, прояви малейшее усердие? Например, вполне мог оказаться знающим письмо. А коли наделён такой способностью, значит должен занять важное положение в тамошнем обществе. И, вполне логично, получит возможность избавиться от прежних обязательств, налагая обязательства уже на других. Получается, Мельников рассказал поучительную историю, заодно обеспечив собственный заработок за каждый отдельно взятый лист. И было бы то хорошо, придерживайся схожего повествования он в дальнейшем, не возвращаясь опять до обрядов староверов.
Отчего не упомянуть на страницах сказание про град Китеж? Особенно учитывая, что про сей город все давно забыли. Некогда, когда татарское иго разлилось по Руси, Китеж ушёл под воду, не уступив завоевателю своих земель. С той поры в народе появилась вера, что когда-нибудь град станет вновь доступным, стоит уйти татарам восвояси. Но те ушли, а Китеж так и не появился, став одной из легенд староверов. Пусть тому имеется более рациональное объяснение, только Мельников не для того о нём взялся рассказывать. Он хватался за всякую возможность, позволяющую заполнять страницы. Даже кажется, не будь сего подводного града — Мельников всё-равно мог найти, о чём другом написать.
Известно ли читателю, каким образом староверы писали тайные послания? Они могли использовать молоко, тем вводя в заблуждение. Порою кажется, отчего Мельников не создавал произведения схожим способом? Или он всё-таки использовал приёмы, не совсем схожие с правдой? Зачем-то ведь он решил свести понимание верований староверов на нет. Долго показывая их людьми с особым складом мышления, живущими подобно христианам, но с некоторыми отличиями. Теперь же выходило так, будто не стоило то никаких забот. Всё отличие сводится к иллюзорности. Потому и вспоминается град Китеж — обыкновенный город для одних и элемент сказания для других. Он как бы есть и его как бы нет — остаётся лишь верить. А Мельникову оставалось продолжать писать — стоимость печатного листа возросла.
Автор: Константин Трунин