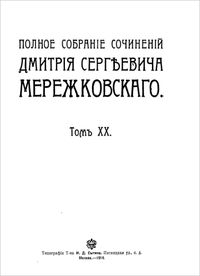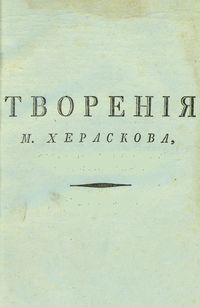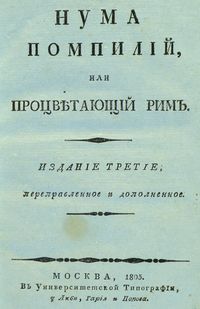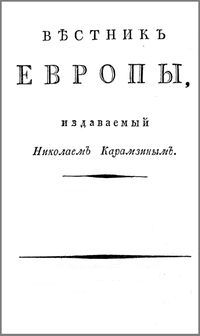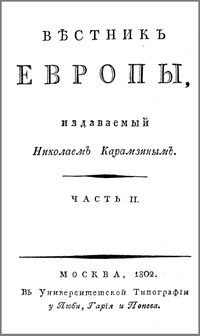Василий Жуковский — Басни из Лессинга (1818)
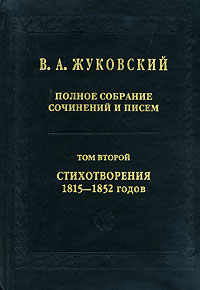
Хоть басни и малы, размером многостраничным виршам уступают, они всё же больше важны, и все об этом знают. Ведал порою и Жуковский о том, хотя ведал редко очень, потому лишь к 1818 году в его исполнении прочтём, убеждаясь, насколько басенный труд на веки вечные прочен. Писал Василий басни и лично, было у него такое прежде иногда, делал он то на редкость отлично, о чём забыл — погасла баснописца звезда. Не нужно грусти, зачем оной предаваться? Не сам он, тогда переведёт мудрость чужую. Будет на переводческой ниве стараться, сообщая мудрость сложную и довольно простую.
Вот басня «Лисица и обезьяна». Про какие материи мог быть затеян спор? Касалось всё банального изъяна, объяснявшем обезьяний вздор. Задумала мартышка, скажем про неё так, ведь не хватало умишка, зверь она — простак. Она сказала — всякого покажет, любого изобразит. Да отчего лисице находить объект позора? Она иной ответ сообразит, освобождаясь от мартышкиного вздора. Всякий может показать, отчего не изображать достойного того? А тебя, мартышка, пора бы тебе знать, никто не покажет, не сочтут достойным. Это всё.
Вот басня «Конь и бык» — даёт поучение о разном на вещи взгляде. Например, конь быть осёдланным привык, то для него равносильно награде. Бык смотрит хмуро на такое, сбросит он седока, для него это от человека деяние злое, ещё бы в бок не упиралась ему чья-то нога. Конь иначе смотрел, не видел причины: зачем сбрасывать, если кто взобраться сумел? Достойный то поступок и для совсем юного мужчины. Правда не так сказывалось в басенном сюжете, мораль велась к непониманию действовать вопреки, всё равно останешься в ответе, вези седока или не вези.
Вот басня «Журавль и лисица» — ещё одно поучение о разном понимании сути. Лисе важен Париж и Ницца, прочее подобно болотной мути. Но бывал журавль в Париже, лягушек в полях окрестных едал, ему червей искать в земле — гораздо ближе, чем посетить великосветский карнавал. Того лиса не понимала, требуя рассказать о том, в чём ходит высший свет. Так ничего и не узнала, на то у журавля ответа нет.
Вот басня «Алкид» — так Геракла с рождения люди звали. Он наконец-то на Олимп проник, его там ждали. Всем удивляться пришлось, поскольку сын Юпитера стал почести Юноне воздавать. Разве другого занятия не нашлось, чем славить, смевшего кончины Алкида желать? Это мудрость христианства, о которой помнить следует всем, дабы не показывать присущего людям чванства, не создавая вековечных дилемм. Всё просто, разве иное суждение возможно? Геракл на Олимп попал против воли Юноны. Будь иначе, то непреложно, не одолел бы он путь, будь иные препоны.
Вот басня «Дуб» — величия показательный пример. Пока не рухнул, его мощи не осознавали. А как ветер повалить его смел, тогда, видя пред собою распластанным, наконец-то признали.
Вот басня «Соловей и павлин» — про прелесть дружбы с простым людом она. Пока соловья в лесу сторонились, от зависти явно, нашёл соловей в павлине друга сполна, и зажили они среди дворовой птицы очень славно.
Вот басня «Пастух и соловей» — про заполнение талантом пустоты. Пришлось соловью замолчать, ибо расквакались лягушки. Ему они мешали петь, не терпел он их простоты, не понимал способности судачить этой челяди и чьей-то служки. Что же, соловей, оттого и подняли лягушки гомон на весь лес, твой глас затих и теперь раздолье им. Радуются они, что соловья голос исчез, наслаждаются кваканьем они теперь только своим.
Вот басня «Меропс» — про птицу, якобы способную летать головой и хвостом вниз. Это сказ за мутную водицу, о человеке, что видит окружение себя близ. Пусть человек мечтает о полёте, хоть даже летит, коли взлетит — его легко обратно вернёте, ведь на иной мысли человек не стоит.
Вот басня «Дар волшебниц» — про людское желание гнаться за трудно достижимым. Знает всяк, насколько монархи способны строить планы. Всё им кажется возможным, но в действительности является мнимым. Незаметные мелочи причиняют болезные раны. Вот бы сталось так с людьми, чтобы хотели многого, о насущном помнить не забывая, ничего в том нет сложного. Да было бы так, судьба у человека сложилась иная.
Автор: Константин Трунин