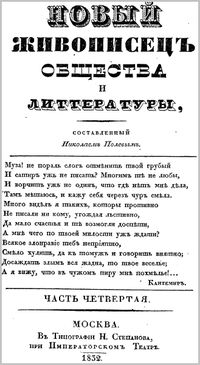Фридрих Шиллер «Ивиковы журавли» (1797)
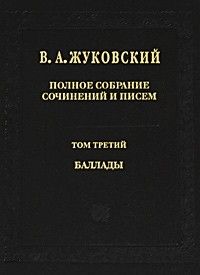
Баллада переведена Василием Жуковским в 1813 году
Говорить не спеши, обладай умением молчания, не придавая значение кажущемуся важным тебе. Пусть это будет необходимым, мниться уместным и должным для выражения мнения в нынешнем дне. В сей час, минуту, секунду, кратчайшую долю мгновения — важно сказать, сгореть иначе в огне. Подумать нужно, никуда не спеша, ибо накличешь беду за говорливость самому себе. Так уже было однажды, когда поэта Ивика убили, в тот год, что дал окончание всякой войне. Убили его, причём знакомые, по злому умыслу или по чьему-то приказу, пребывая в твёрдом уме. Подстерегли на лесной тропе, нанося страшный удар, карая безвинного, растерзав тело на пне. Безумие! Мир о мире провозгласил, Истмийские игры в Коринфе ожидались. Да человек всегда пребывает во зле. Шиллер данный сюжет, с наставления Гёте, в балладу преобразил, напомнив о необходимости молчания всегда и везде.
Существует легенда, Плутарх её хорошо разобрал, болтливых осуждая, примером ярким случай с Ивиком стал чему. Понятно должно быть каждому: говорить в меру нужно, не ради бесед, познания ради, отдавая должное не себе одному. О том лучше сказывать на примере Ивика убийц, не сдержавших порыва воскликнуть, позабыв о тайне заботу свою. Предание сообщает, будто в момент гибели Ивик журавлей на небе увидал, должных стать свидетелями отныне ему. Журавлей он призывал про убийц донести, людям полагается о случившемся знать, иначе кару не понести никому. Уже тогда смеялись убийцы, зная о немоте журавлей. Не скажут они слова против, верные языку птиц своему. Так и было, не собирались журавли тайну убийства разглашать, следуя мимо, может к Посейдону в царство самому.
Но вот журавли пролетают, кричали явно с небес, о чём-то хотели поведать, внимание людей привлекая. Шиллер молчал, в общих чертах представляя сюжет, собственным смыслом содержание наполняя. Убийцы сами увидят полёт журавлей, не ведая про их желание тайну раскрыть, просто удивление их появлением выражая. Кто-то крикнул из толпы про птиц — мстителей Ивика, отчего насторожилась толпа, подлинную суть распознавая. Выяснилось сразу, убийца — крикнувший. К нему подступили, обличая в содеянном, будто это подлинно зная. Не всё сказано! История скупа. Баллада не даёт представления об имевшем место быть когда-то, писал о былом Шиллер играя. Куда ему спешить, к чему вести сказание, когда подлинных деталей не знает никто, на свой лад разное утверждая. Обличены убийцы, не сдержавшие эмоции и сказавшие лишнее, сами себя тем на смерть обрекая. То и следует понимать, до прочего не слишком вдаваясь, хоть изредка упущение убийц Ивика вспоминая.
Так и бывает, из века в век иного не случается, ведь всякое деяние легко сокрыть. Тому мешает человека желание, может из жажды личной славы, о поступке сообщить. Как не сказать другим — они убили, подняли руку на поэта, помешав ему в величии жить. Но нет того в предании. Отнюдь! Лишь обличение в болтливости. Любили много говорить. В лесу тишина, никто по тропе не шёл, оттого не мог свидетелем содеянного быть. Что до журавлей… То предание, сущую глупость показывающее, чтобы всё объяснить. Только нужно понять, даже мельчайшая деталь, с виду неважная, сможет в содеянном уличить.
В России балладу Шиллера переводил Жуковский. Как всегда, по отношению к Шиллеру, предельно чёткий. Никого другого, видимо, он насколько не ценил, раз перевод столь на похожесть броский. Во всём верный, ничего Василий не прибавил и не убавил: стих и без того был короткий.
Автор: Константин Трунин