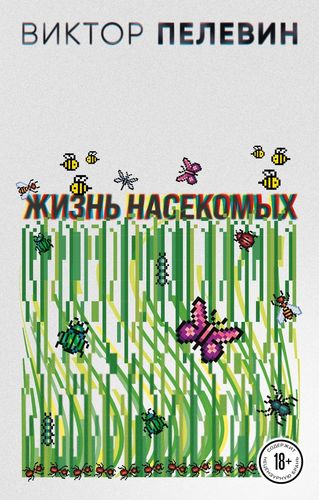Айрис Мёрдок «Море, море» (1978)
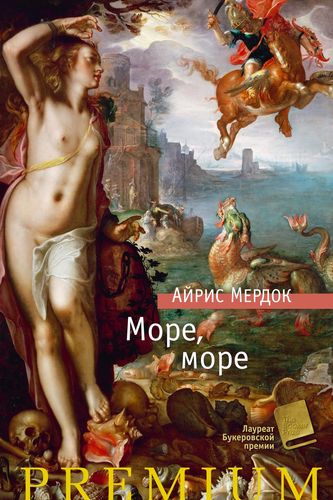
Пока исследователи творчества Мёрдок ссылаются на Ксенофонта, видя в том явный намёк на радостное ликование древнегреческих воинов, пробившихся к морю, читатель склонен отметить саркастический намёк непосредственно Айрис, ёмко отразившей подход к написанию произведения. В лучших традициях потока сознания, Мёрдок пыталась нащупать сюжетную линию. Повествование сплеталось с обозначенного замысла, после перебором всего и вся выводя к драматической составляющей. Зачем и почему? А это ещё одно переосмысление названия. Пусть для читателя на страницах отражена обыденность момента, будто бы вовсе неважная. Ну кому интересно знать, чем питаются гедонисты? Какие мысли сидят в головах у сибаритов? Может спустя две тысячи лет стряхнут пыль с книги Айрис Мёрдок, прикоснувшись к скрупулёзному описанию действительности давно ушедших в былое лет. Говорить можно о чём угодно. Но всё же нужно взглянуть и на саму историю, с которой читатель оказался вынужден познакомиться.
Говорят, нужно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. Это не про главного героя произведения. Он прожил жизнь, наполненную событиями, достигнув всего им желаемого, кроме самого основного — личного счастья. За жизнь он ни с кем себя не связал, не завёл детей, теперь вынужденный проводить дни на берегу моря. Где-то в глубине души он явно понимал, сколь много потерял. Особенно ярко осознав, встретив на том же берегу некогда им любимую женщину. Годы прошли, она счастлива в браке, воспитывает сына. Как теперь главному герою мыслить своё дальнейшее существование, имея такой пример перед глазами? На его беду — он стал героем книги за авторством Айрис Мёрдок. И начнётся череда из событий, в которые не следовало вмешиваться, поскольку каждый его шаг будет воспринят за правильный, тогда как после всё будет низведено во прах.
Читатель должен понимать, приведённое изложение сюжета — малая часть повествования. Это та самая канва, обёрнутая во многие лишние для текста слова. Или как читатель должен понимать тех же исследователей творчества Мёрдок, ссылавшихся на французских экзистенциалистов? Канон экзистенциальности — ничего лишнего. Не бритва Оккама, но всё же! Айрис полагалось вымарать лишнее, начиная от вступления и до поиска сюжета, ознакомив читателя с лаконичным изложением человеческой драмы, где главный герой хотел для себя лучшего, сломав жизнь каждого, до кого он дотянулся. Может быть Мёрдок таковую работу проделала, облегчив текст от ещё большего напластования слов. Или всё оставила без изменений, согласно другого приписываемого ей принципа — что не делай, совершенство будет достигнуто и без твоего участия.
Как тогда следует относиться к содержанию произведения? Оно останется неизменным, в каком бы возрасте читатель не принялся за знакомство с текстом. Надо иметь особый склад ума, позволяющий сохранять усидчивость до последнего. Опять же, следуя заветам исследователей творчества Мёрдок, если Айрис идёт по пути дзен, то читатель — освобождённый от пут даос. Чтение не должно приносить удовольствие, оно должно напитывать разум. И цельное зерно всегда будет найдено, какого бы уровня не был текст. В одном Мёрдок помогла — обозначив сюжетную линию, разрушив для читателя идеально выстроенную модель выражения гнева. Теперь не получится указать на чрезмерное количество воды в тексте, так как самое главное находилось на поверхности. Пока читатель пытался проникнуть вглубь содержания, течением его вынесло обратно.
Как не добавить то обстоятельство, что за «Море, море» Айрис Мёрдок получила Букеровскую премию? Пожалуй, этой строчки могло быть достаточно.
Автор: Константин Трунин