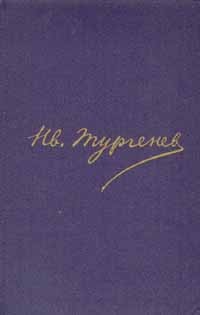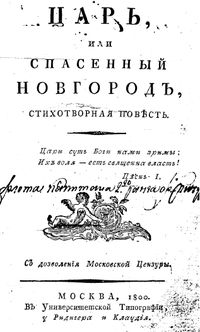Михаил Салтыков-Щедрин «Племяннушка» (1876)
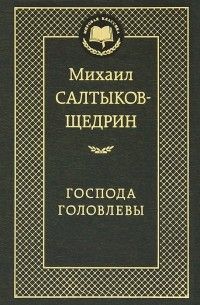
Из циклов «Благонамеренные речи», «Господа Головлёвы»
Арина Петровна умерла, пришло извести о смерти сына Порфирия, теперь Иудушка Головлёв ощутил одиночество — он выморочный. Роду его суждено пресечься. Осталась надежда на племянниц, уехавших из родового имения, желающих обрести счастье под покровительством муз — то есть стать театральными актрисами. Значит, Головлёвы могут продолжить существование? Отнюдь, изначально четвёртая часть произведения именовалась как «Выморочный», при публикации исправлено на «Перед выморочностью», в дальнейшем оттенок был снят, дабы заранее не рассказывать читателю о развитии сюжета. Предстояло наблюдать за отношениями Порфирия и племянницы, приехавшей с кратким визитом, дабы оформить наследство — ей с сестрой причиталась одна деревня.
И вновь читатель не знает, каким образом ему относиться к Иудушке. Отрицательные черты перемежаются с разумными мыслями. Во всём прав глас Порфишки-кровопийцы. Он всячески пытался переубедить племянницу возвращаться к театральному искусству. Зачем оно молодой девушке? Ведь это царство разврата. Не добродетельной девицей она будет — её там воспринимают за объект вожделения, каковой легко втаптывается в грязь, как и используется половая тряпка, чьё назначение — растирать непотребства. А тут — в деревне — племянница прослывёт за барышню, начнёт принимать поклоны крестьян, заживёт добродетельной жизнью.
Конечно, прав Порфирий в мыслях. Теперь он действительно желал остановить разрушение рода. Оказался готов делиться с близким человеком. Всё повествование четвёртой части — попытка удержать племянницу дома. Но не понять человеку, далёкому от суеты высшего света, насколько манит людей возможность находиться в лучах чужого внимания. Порфирий прозябал в отстранённости, не выписывая газет и не получая известий из внешнего мира. Он полностью удовлетворился имениями, отнимавшими изрядное количество времени на владение. Где быть интересу к жизни столиц, когда нужно высчитать точный урожай крыжовника, буквально до каждой ягодки, упавшей с куста.
Мелочность Порфирия Салтыков называет паскудной. Михаил вообще не стеснялся в выражениях, он и племянницу поставит перед осознанием участи публичной женщины. И русский театр назовёт жалким. Категоричность могла быть навеяна восприятием от Франции, где Михаил находился во время написания «Племяннушки». Не из простых побуждений читатель отмечал, насколько пропитался Михаил западными ценностями, кляня теперь и их. Воистину казалось, не могло существовать такой среды, где Салтыков мог остаться довольным. Родись он в пределах парижских или итальянских городов, быть ему сатириком жизни Запада, нисколько не уступающей российским реалиям. Пока же, описывая пребывание племянницы в гостях у Порфирия, Михаил частично оправдывал русскую деревню, невольно сохранявшей правильный уклад, далёкий от распоясанных нравов мест, славящихся театральными представлениями.
Правильность мыслей оказывается низведённой пагубностью восприятия окружающей действительности. Ругая других, Иудушка ничего не менял. Он и могилу матери не стал облагораживать. Вполне решил, что достаточно деревянного креста. Ругая всё на свете, этот светоч правдивых до ложности мудрствований, не показывал на личном примере необходимость должного быть. А раз так, значит и племяннице не следовало оставаться в родовом имении, то ей грозило скорыми печалями.
В итоге получалось, где не живи — в правильной или ложной среде, всё равно окажешься в окружении человеческого стремления к пороку. Только на словах люди кажутся правильными, тогда как их дела тому редко соответствуют. Для усиления восприятия, Салтыков в окончании повествования приведёт племянницу к священнику, где, за кажущейся святостью, найдётся сходная зашоренность мысли. Тот же взгляд на мир, такая же заинтересованность во владении имуществом, сходное обилие пустых — практически не имеющих отношения к действительности — слов. Оставалось племяннице бежать из головлёвских владений, ей казалось — быть публичной женщиной ничем не хуже, чем жить среди пустословов.
Автор: Константин Трунин