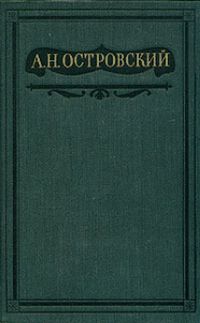Лев Толстой «Записки маркёра» (1853-55)

Будучи на отдыхе от армейской службы, Толстой очень быстро набросал в сентябре 1853 года текст за всего лишь несколько дней, впоследствии его дополняя. Писал по нахлынувшему на него вдохновению, с превеликим азартом. Как говорил он сам — до замирания сердца. При этом справедливо отмечал несовершенство слога. В подтверждение он встречал критику, которой не перечил. Толстому говорили в мягких тонах об однотипности действующих лиц. То есть неважно о ком бы писал Толстой, все они на одно лицо, похожи по выражаемой мысли и по форме их речи. Во многом поэтому рассказ не публиковался до 1855 года, вследствие необходимости дождаться ответного мнения от Льва, должного внести правки, либо позволить печатать в неизменном виде. После своё суждение выскажет цензура, учитывая неблагожелательное описание обыденности, о чём Толстой рассказал без задней мысли, показав действительные нравы общества тех дней.
А что именно не понравилось цензуре? Лев не открывал новых истин. О подобном писали уже на протяжении нескольких десятилетий, только не со столь печальным итогом. Взять того же Николая Полевого, показавшего жажду молодых людей к лёгкой жизни, когда целью становится удачный брак. Непосредственно Александр Островский на протяжении долгих лет писал об аналогичной жажде поиска богатого приданого от невесты, либо ожидания вступления в наследственные права. В «Записках маркёра» использовалось похожее суждение, за исключением самого стремления. Лев показал человека, прожигавшего жизнь, предпочитая жить в долг, поскольку знал, что век его короток, закончится печально, чему причиной станет невозможность вернуть занятое.
Но повествование идёт не от первого лица. Читатель внимает истории от маркёра — человека, должного помогать господам при игре на биллиарде. Данный человек примечает склонность господ к яркому времяпровождению, тогда как по ним всегда видно их необеспеченное состояние. И читатель должен был сам заметить, как складывалась жизнь в стране вообще, если таковых господ становилось всё больше. Можно предположить, виной тому являлась непосредственно система наследования, выраженная неумением наследников распоряжаться им доставшимся — состояние быстро растрачивалось, становилось невозможно обеспечивать дальнейшее существование. Могли быть другие причины, ни с чем конкретно не связанные. Люди с таким характером будут всегда, какие условия им не предоставь.
Если читатель пожелает задуматься, то увидит такие же условия, в которых вынужден жить, стоит ему посмотреть вокруг себя. Так ли мало людей, проживающих жизнь, стремясь обеспечить своё существование благами, не имея для того собственных возможностей? Как в «Записках маркёра», так и ныне в быту, человек стремится жить завтрашним днём, обещая заплатить за им пользуемое когда-нибудь после. А если у него изначально нет возможности отдать за им взятое? Толстой к тому и подводил читателя, с чем вынуждена была согласиться цензура, повествование создавалось с назидательной целью, дабы показать необходимость избегания беспутного образа жизни.
Надо обязательно согласиться с полезностью изложенного в «Записках маркёра», в том числе принять исход повествования за самое разумное из возможных. Конечно, далёкий потомок Льва Толстого, живущий будто бы в благостном веке сбережения детской психики от потрясений, скорее выскажется с осуждением: оступившемуся следовало влачить жалкое существование, претерпевая горести доставшейся ему судьбы. Однако, каким бы бессовестным тот персонаж не являлся, всё-таки он оставался совестливым. А в те времена имелось ещё и понятие чести. Представленный вниманию читателя персонаж вовсе не желал жить обесчещенным. Поэтому остановимся на мнении, для лица военного, коим являлся Лев Толстой, иного выбора для того персонажа быть не могло.
Автор: Константин Трунин