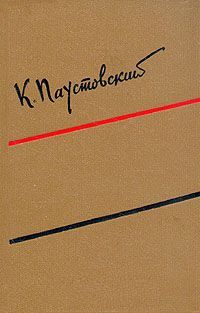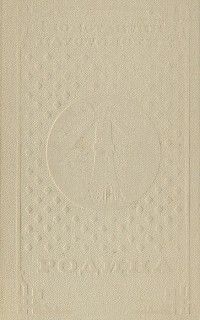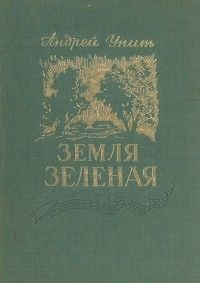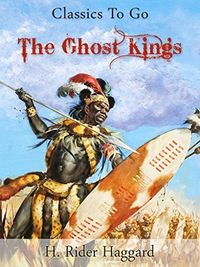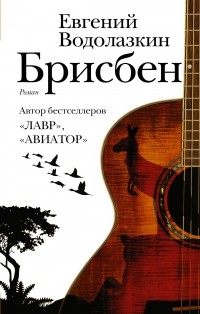Вячеслав Шишков «Емельян Пугачёв. Книга II» (1939-44)
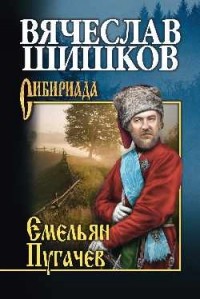
Для читателя так и останется непонятным, почему Шишков никак не отразил в повествовании русско-турецкую войну, начавшуюся за пять лет до пугачёвского бунта и законченную во время этого крестьянского восстания. Давая, как принято думать, широкую картину жизни Империи, описывая будни императрицы Екатерины, казацкого стана и боевые действия в пределах Оренбурга, Шишков словно забыл о важном, вследствие чего нельзя было воспротивиться помыслам Пугачёва. Основные силы Империи защищали границы по западным рубежам от севера до юга, причём на юге, в сопредельных с Османской империей землях и водах, разворачивались масштабные боевые действия. Вместо этого, читатель видит слегка обеспокоенную императрицу, волнующуюся за яицкий казацкий стан, где повадился куражиться Емелька. Видит читатель и Емельяна Ивановича, продолжавшего щедрой рукой раздавать чины да обещать благости, стоит ему взять Оренбург, после чего все города покорятся, включая Москву.
Но нельзя отказываться от главной повествовательной линии — объяснять скудоумие бар. Не столько императрица повинна в бедах народа, сколько дворяне. Вот их и нужно уничтожать, причём поголовно. Толку от бар нет на Руси, совсем они землю под ногами ощущать перестали. Птичек заморских приобретают, изысканным словам обучают, хотя лучше бы дали право птицам матом выражаться. Помимо пернатых, повадились дворяне негров приобретать, больше на потеху. Разве своих крепостных для данной цели им не хватало? Снова забыв про Пугачёва, Шишков расскажет про приключения графа Калиостро в России, дополнительно сообщит, как презрительно к данному авантюристу относилась Екатерина.
Кто ещё был связан с пугачёвским бунтом? Любопытствующий знает, ежели знаком с биографией Ивана Крылова, что детство баснописца как раз пришлось на разгар бунта, коснувшегося его семьи: Иван видел погромы лично, застал и убийство отца. Об этом Шишков посчитал нужным подробно написать. Вместо описания ярких сцен из той же русско-турецкой войны, где так и не становилось ясно, когда будет достигнуто мирное соглашение.
Показывает Шишков артельщиков — простых мужиков. Шли они пожаловаться на зверства помещиков, не дававших им жить спокойно, трудиться на совесть. Двигались прямиком к дворцу императрицы, стояли на коленях перед окнами и ждали её появления. Может Екатерина и проявила бы к ним внимание, но артельщиков старались отвадить, чтобы они не беспокоили императрицу. Шишков давал ясно понять, почему всё сильнее закреплялось мнение о бесчеловечности именно бар. Свои преступления они покрывали всеми средствами, никак не позволяя донести про их деяния. Впрочем, артельщики должны были знать об указе Екатерины, согласно которому: строго запрещалось жаловаться на помещиков — за это полагалось суровое наказание.
Значительная часть второй половины книги — описание подготовки к боевым действиям и они сами. Объяснялось, почему, всего тридцать лет назад, было выстроено столько крепостей в пределах Оренбурга. И давалось представление — не будь их, Пугачёв мог действовать вольготнее. Ему-то и требовалось всего лишь дойти до Оренбурга, взять его в осаду, после чего он окончательно будет признан за настоящего императора Петра III, нисколько не почившего. И быть восстанию успешным, не отправь императрица войска, способные оказать действенное сопротивление.
Оставалось Шишкову написать третью книгу, в которой он покажет подавление пугачёвского бунта. Это уже и без того казалось явным. Не сможет Пугачёв противостоять регулярной армии, какую бы поддержку он себе не находил в лице казаков. Всё-таки, поддерживали его люди не из-за личного пристрастия, а сугубо из желания расправиться с опостылевшими им барами.
Автор: Константин Трунин