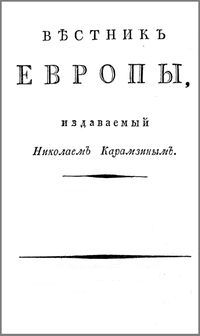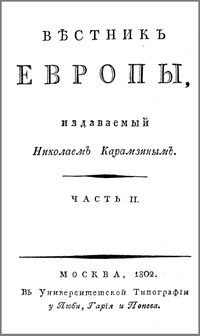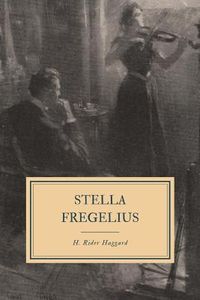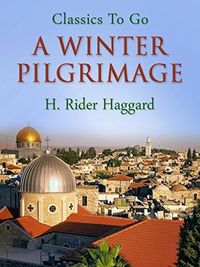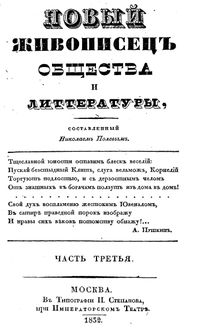Демосфен «Девятая филиппика» (IV век до н.э.)
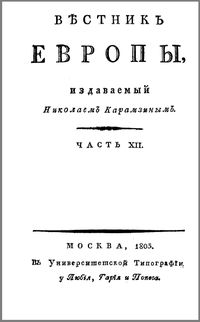
Филиппика переведена Николаем Карамзиным в 1803 году
О, греки! Власть Филиппа над вами велика! Велика власть того, кто держит над вами власть тринадцать лет, и не думает этой власти никому уступать. Кому прежде вы, греки, доверяли над собою власть, как ныне македонскому царю? Разве афиняне владели греками? Никогда. Лишь малой их частью, и то не владея полноценно. Может спартанцы? И их власть — ничто, ежели браться сравнивать с властью Филиппа. Есть отчего негодовать, оттого и негодовал аттический оратор Демосфен, всячески призывая греков к сопротивлению. Пора сбросить иго всевластия македонца — вещал он с трибуны. Да не знал тогда Демосфен, к чему приведёт власть Филиппа, какого могущества на стартовом капитале отца достигнет его сын — Александр. Не ведал Демосфен и о распаде империи македонцев. Но всё он успеет застать, ибо переживёт Филиппа, Александра и сам падёт, поскольку афиняне выскажут ему приговор, должный привести к смерти оратора.
Речь Демосфена не во всех моментах ясна, скорее местами пространна. Но интерес к ней сохраняется на протяжении всех последующих лет. Среди русских историков к оной проявил внимание Николай Карамзин, взявшись перевести для читателя «Вестника Европы» одну из филиппик — девятую, прозываемую одной из лучших, каковые принадлежали Демосфену.
О чём ведал жителю Афин оратор? Он сетовал на раздор, неизбывно пребывающий между греками. Как так получается, что сила греческих городов — в разнообразии нравов? Взять афинян — это целеустремлённые люди, считающие, будто мудрость мира сосредоточилась сугубо в их владениях — аттических. Никто не может жить в Афинах, кроме афинян, он только имеет право пребывать в качестве гостя, не смея рассчитывать на большее. А вот взять для примера их соседей — беотийцев. Такие же греки, только за таковых афинянами не принимаемые. Или взять жителей южного полуострова, где царствовали спартанцы — довольно военизированный народ, среди соседей которых числились лаконцы, на века прославившиеся неразговорчивостью и максимальной краткостью в высказываниях. Уж не лаконцам ли являли полную противоположность афиняне, любившие много и пространно говорить? Поистине, Демосфен — золото среди подобия драгоценных камней. Он словно один говорил по делу, тогда как прочие переливали из пустого в порожнее.
Итак, греки пребывают в раздорах. А таковых всегда проще одолеть, нежели сильных единым духом. Тем и пользовался Филипп, сумевший раскинуть над греками власть. Не следует ли сынам Эллады забыть о предрассудках, сплотиться, навроде когда-то уже бывшего объединения, стоило возникнуть нужде выступить одной силой против троянцев. Ведь тогда в бой шли бок о бок будущие спартанцы, афиняне и жители отдалённых западных островов, представителем каковых был Одиссей с Итаки. Разве такое невозможно повторить вновь? Реальность всегда оказывается отличимой от преданий. Это в сказаниях о прошлом земли греков населяли герои, ныне канувшие в Лету вместе с олимпийскими богами.
Подобно Демосфену будут ещё не раз раздаваться призывы, дабы люди забывали обо всём, когда предстояло предстать единой силой. Таковое станет случаться каждый раз, стоит очередному оратору осознать крах той системы мира, которая прежде для него была привычной. Нужен яркий пример? Достаточно упомянуть Виктора Гюго, чьи жаркие стихи обвиняли французов в трусости, так как те соглашались на возвращение над собою императорской власти, приняв в качестве полновластного владетеля Наполеона III. Но всё это сводится к риторике. Ежели потребуется говорить с жаром — такие речи раздадутся с трибун. Не может человек спокойно воспринимать крушение ему близкого… и всё же обязан принимать! Ещё не бывало такого, чтобы ничего не поменялось.
Автор: Константин Трунин