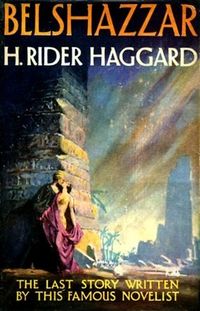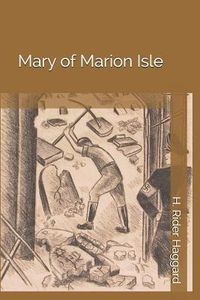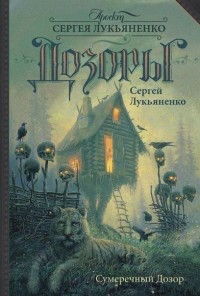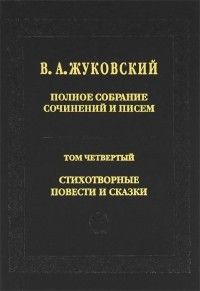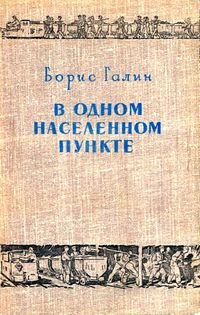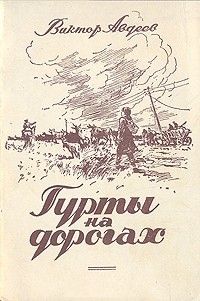Николай Лесков «Оскорблённая Нетэта» (1891)
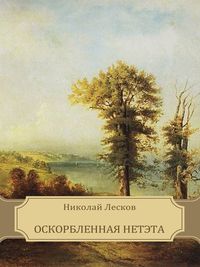
Редкий автор пишет так, чтобы его современники недоумевали: неужели когда-то люди жили иначе и думали, исходя из других моральных предпосылок? Объясняется это просто — каждое поколение создаёт то представление о прошлом, какое ему кажется более правильным. Иногда доходит до абсурдной интерпретации былых событий, приписывая человеку из прошлого ход мысли, который ему не мог быть свойственным, поскольку он жил при других обстоятельствах, нисколько не способных сравнять его мировоззрение с точкой зрения потомка из необозримо далёкого для него будущего. Но и создание автором представления об ином осмыслении бытия, опираясь на будто бы должное быть естественным для некогда происходившего, чаще оказывается присущим нам заблуждением, когда речь заходит об определённом историческом периоде.
Повесть «Оскорблённая Нетэта» при жизни Николая не публиковалась. Видимо, исходя из содержания, должного трактоваться не совсем допустимым к восприятию читателем тех лет. Лесков подводил повествование к больному для понимания моменту, то есть к неприятию человеческих заблуждений, пропитанных теперь уже ставшими непонятными категориями. Хотя предлагаемая история начиналась едва ли не с красивых описаний, где римляне — сильные и волевые люди, способные сокрушать волю каждого, кто встаёт на их пути, ни с чем не считаясь, ставя собственную честь превыше всего.
Лесков вытесал из слов образ верного императору римлянина. Тот, будучи неказист лицом, отличался истовой преданностью. За это император его примечал, приблизив к себе, позволив числиться в рядах личной охраны, и на каждую просьбу отвечал благосклонным согласием. Император не стал разбираться, каким именно образом умерла жена римлянина, скорее всего утопленная любовником. Ни к чему низводить чувства преданного ему человека, лучше дозволить сочетаться браком с невинной девушкой, чьё мнение значения не играет. Той девушкой окажется Нетэта, жившая теперь так, словно она оказалась ограждена от обид каменной стеной.
Тогда-то и начнут описываться Лесковым события, скорее всего поставившие крест на публикации. В Нетэту влюбится римский гражданин, настолько проникнувшийся красотой девы, что пойдёт на обман, лишь бы иметь интимную близость. Он сделает так, чтобы Нетэте было сообщено — с нею пожелал сойтись сам Анубис, считаемый египтянами за бога. Будучи натурой доверчивой, считающей за должное угождать желаниям богов, Нетэта согласится на близость, нисколько не задумываясь о дозволении мужа, не спрашивая у него мнения, допустимо ли подобное проявление уважения к высшим существам. Для читателя-современника Лескова уже это должно было казаться кощунственным.
Николай продолжил повествовать. Римский гражданин расскажет Нетэте правду, как он её настолько полюбил и возжелал, что предстал в качестве Анубиса, оным в действительности не являясь. Это повлечёт события, в результате которых сей храбрый любовник будет должен подвергнуться казни за преступление против чести приближенного к императору римлянина. И вновь Лесков дополнил повествование необычным развитием — Нетэта оскорбилась на действие власти, посчитав недопустимым убивать человека, который её любит. Неважно, каким образом он осуществил над нею насилие, теперь она отказывается соглашаться с необходимостью казнить любовника, поскольку он ни в чём не виноват.
Мнение о произведении обязательно должны разделиться. Сторонники чувственной сферы посчитают право Нетэты обоснованным, невзирая на изложенные автором события. А те, кому ближе материальные ценности, выступят за обязательное наказание для совершившего проступок, призвав наказать за измену и Нетэту, добровольно возлегшую рядом с мужчиной, пусть и считаемого ею за воплощение божественной сущности. Так или иначе, нравственность повествования оказалась под большим вопросом.
Автор: Константин Трунин