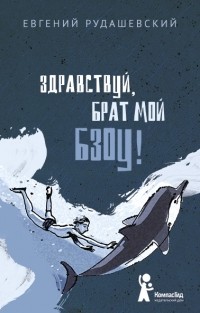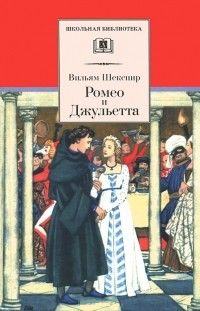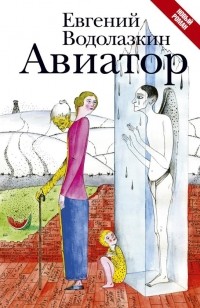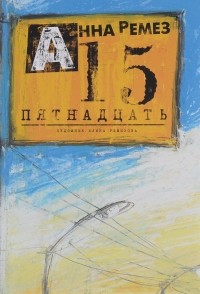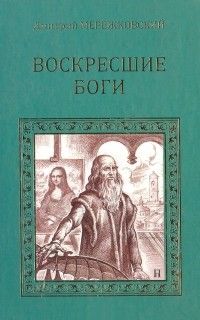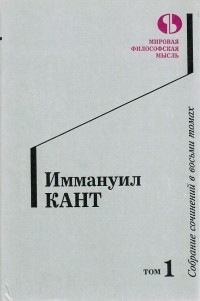Владислав Бахревский «Святейший патриарх Тихон» (2001)
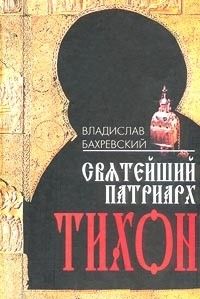
Пётр I не только породил своими указами крепостное право, но он же низвёл в угоду нуждам государства церковный патриархат. Лишь в 1917 году, будучи на распутье, религиозные деятели смогли вернуться к прежней системе, волей судьбы поручив управление делами православной церкви Тихону, в миру известному под именем Василия Беллавина. Владислав Бахревский взялся донести до читателя перечисление возникших проблем, выразившихся в трудности понимания дальнейшего существования религии во в мгновение ставшим арелигиозном обществе и в невозможности найти общий язык с представляющими власть большевиками.
Бахревский представил Тихона в образе ратующего за справедливость добродетельного человека, с болью принимающего творимые людьми зверства. Подобный образ согласуется с представлениями о церковном служителе, таковым и обязанным быть. За сим портретом была утрачена личность самого Тихона, вышедшего под пером Владислава излишне представленным в идеализированном варианте, лишённым предрассудков и действующим согласно желанию его таковым видеть со стороны. Возможно, Тихон таковым и был на самом деле, тогда Бахревского нужно похвалить за верно воссозданную историческую фигуру в рамках беллетризированной биографии.
Владиславом не ставилась задача отразить личность первого патриарха после восстановления патриаршества, читатель мельком узнаёт про прошлое Тихона, в том числе и о его деятельности в Северной Америке, в остальном внимание сосредоточено на событиях после 1917 года. Повествование построено более с упором на хронологическое перечисление событий, на некоторых из которых Бахревский останавливается подробно и показывает их с точки зрения патриарха. Рассказать есть о чём, как про изменение правил орфографии и введение нового календаря, так и об активной деятельности большевиков, желавших извести церковных служителей и саму церковь. Тихону было суждено несколько раз сидеть в застенках, быть допрашиваемым и оказаться перед угрозой смертельного приговора, чего ему удалось избежать.
Православной церкви предстояло принимать самостоятельные решения, ей никто не мог помочь и она не могла на кого-нибудь опереться. В тяжёлые времена масштабных перемен нужно было искать средства для спасения религии. Лучшим вариантом, как и прежде, стало сотрудничество с властями, ровно как это было на протяжении двухсот предыдущих лет. Тихон это понимал, и со слов Бахревского, думал в первую очередь о благе для православия, ради чего требовалось подчиняться и терпеть. Терпел и Тихон, вплоть до смерти, обстоятельства которой до сих пор под сомнением. Владислав позволил себе дать читателю повод для размышлений, внеся в повествование симптомы, мало похожие на официальную причину смерти патриарха.
Тихона не раз пытались убить, доказательства чего Бахревским прилагаются. Судьба хранила этого человека, пока он не позволит церкви пережить опасный для её существования период. Как знать, не стань Тихон патриархом, каким образом могли сложиться дела православия? Владислав наглядно показывает разгул среди священников, свободно попиравших религию, обходя прежние запреты, сообразуясь попустительством дозволяющей так поступать власти. А ведь Тихон мог и не стать патриархом, выбранный волей случая, может быть и против собственного на то желания. Кому-то требовалось озаботиться нуждами церкви, стать примером её совести и поддерживать моральный облик православия, что Тихон в меру собственных сил и старался делать.
Пример Тихона показателен, он должен быть примером для всех религиозных деятелей без исключения. Необходимо быть истинно верующим, заботиться о вере и удерживать паству от искуса, не подвергаясь и самому при этом тому же искусу. Нельзя забывать о прежних перенесённых печалях, ведь всё может повториться снова, и тогда никто после не поверит в истинность помыслов, помня про излишнюю тягу к помпезности и агрессивное стремление к захвату новых территорий. Понадобится новый Тихон. И хорошо, если судьба снова выберет похожего на него человека.
Автор: Константин Трунин