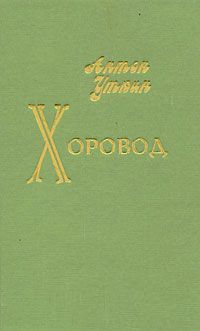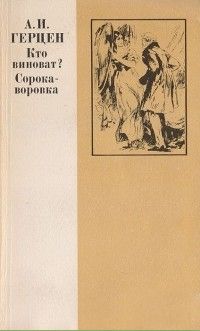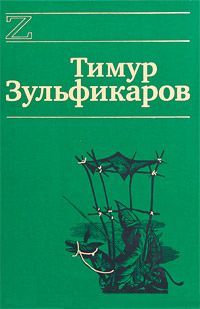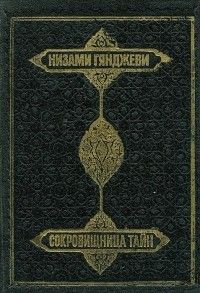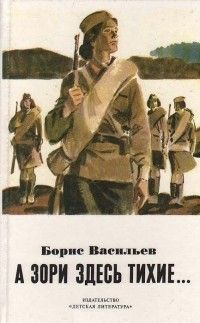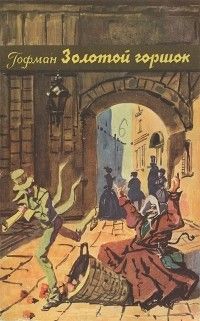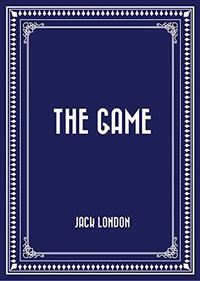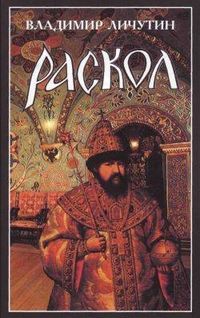Эмиль Золя «Его превосходительство Эжен Ругон» (1876)
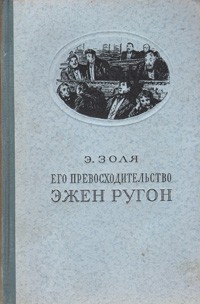
Цикл «Ругон-Маккары» | Книга №6
Эжен, старший сын Пьера Ругона, пошёл по стопам отца, став политиком. Он воспарил выше родителя, занимая важное место в правительстве при Наполеоне III. Его воззрения строго монархические, отчего ему много легче, нежели прочим французам. Когда принимается законопроект или обсуждается распределение бюджетных средств, Эжен всегда успокаивает недовольных, напоминая об уже утверждённом решении императора и кабинета министров. Такого человека ждёт блестящее будущее, если над Франций снова не воссияет республиканская форма правления. Но такой человек может устать и взять время для отдыха. Как тогда быть тем, кто его вывел в люди? На том и строится основное затруднение.
Судьба Эжена Ругона самая примечательная. Никому из его родственников не удалось так высоко взлететь, даже братьям, какими бы средствами они не предпочитали оперировать. Участие в политической жизни страны даёт Эжену многое, чем он пользуется без особого удовольствия. При Наполеоне III специальных навыков иметь не требовалось, нужно было быть лояльным к императору, и тогда фортуна будет сохранять благосклонность. Эжен это понимал, поэтому редко позволял себе инициативу, кроме одного случая, показавшего Ругона с тех же позиций роялиста, только с собою в центре.
Проблемы возникают от необходимости поддерживать связи с обширным количеством лиц, увязанных в единое целое. Если Эжен решит уйти из политики, то потянет за собой тех, кто пользуется его покровительством. И им это может не понравиться. Вместо трагедии Золя решил свести повествование к любовным переживаниям, пасторальной идиллии и азартным посиделкам с Наполеоном III. Сюжетный кусок, выпадающий из канвы распила бюджета и наживания богатых за счёт страданий бедных, уводит внимание читателя от действительно важного включения в творимые власть имущими узаконенные преступления.
Получается ли у Золя писать про преуспевающих людей? Не совсем. Читателю нравится, если жизненный путь героев Эмиля завершается вместе с произведением. В случае Ругонов этого видеть не приходится. Они успешны и не знают горестей, либо справляются с неприятностями, продолжая жить. Некоторые дети Пьера переходят из книги в книгу, вновь вне затруднений действуя в угодной им сфере. Появляется и Эжен, в том же статусе министра, оказывая необходимое сюжету влияние. Также Золя решил не уделять внимание его детям — казалось бы, амурные похождения должны были тому поспособствовать, но потомство Эжен так и не родил.
Потонут старые друзья, появятся новые — Ругон сможет адаптироваться к любым условиям. Как знать, уход Эжена в тень мог помочь ему сбросить груз с плеч и позволить влиться в ряды министров без отягощающих связей. Политическая борьба отличается жестокостью и требует принятия решительных мер, вот почему слабость главного героя произведения даёт Золя возможность показать приход Наполеона III к власти и становления при нём его верных соратников, в том числе и Его превосходительства Эжена Ругона.
И всё-таки Ругон не так важен для описываемого, как отражение исторических событий на страницах. Эжен стал элементом декораций, выполняя отведённую роль статиста, пока перед читателем Эмиль будет вырисовывать фигуру Наполеона III, покажет его досут и устремления. Ничего позитивного в политике амбициозного руководителя найти не получится. Бедствия Маккаров оттого и будут столь печальны, что именно они сталкивались с результатом проводимых реформ, на их благополучие не рассчитанных. А Эжен не видел в том отрицательных черт — так и должно быть в государстве, главой которого является император, желательно единоличный, дабы никто не мог оспорить принимаемых решений.
Автор: Константин Трунин