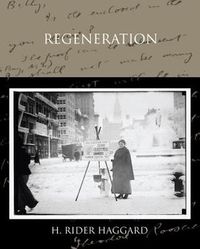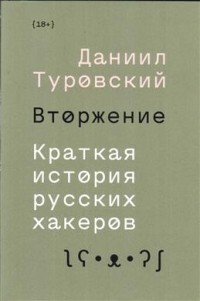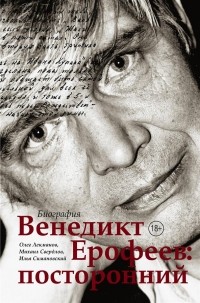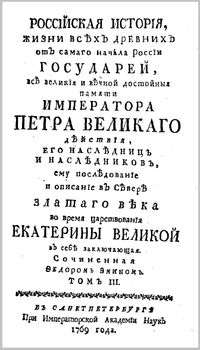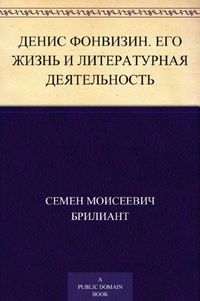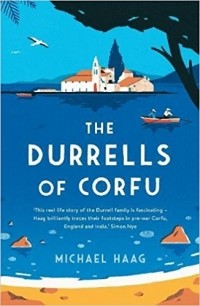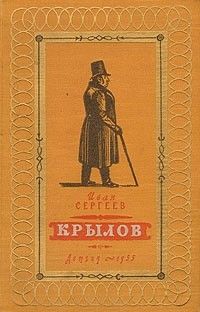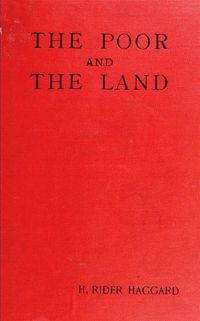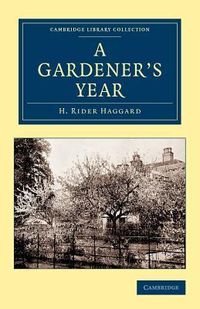Василий Шукшин — Публицистика 1967-68

Писатель — человек особого свойства. Он закрывается от других. Не желает никого впускать во внутренний мир. При этом, писатель открыт для каждого, кто пожелает понять его помыслы. Не всякий писатель обладал умением красиво говорить публично. И не всякий писатель способен грамотно изложить мысль на бумаге. Но Шукшин умел писать, а вот с людьми разговаривать у него не получалось. На всякое возражение следовало молчание. Почему? Писатель обязан обдумать, к чему приведёт произносимое им слово. Нельзя необдуманно выговориться, забыв о последствиях. Так звучит оправдание. На деле писателю трудно разговаривать с людьми по очевидной причине, для чего вполне уместно привести в пример Бога, чьё существование изрядно часто опровергается в рассказах Василия. Что будет, если Бога поставить перед людьми? Разве он не растеряется? Оттого и насылает кары на человека, хоть так способный успокоить бесстрашие рода людского. Тем же образом всегда поступает писатель — он демиург в создаваемых им мирах. Но когда приходится сталкиваться с созданиями не из книг — он теряется, поскольку не наделён властью управлять реальностью.
Однажды Василий имел беседу с учёными, не умея ответить на вопросы сразу. Позже, в спокойной обстановке, собравшись с мыслями, он написал статью «Монолог на лестнице». Писателю проще поступать именно таким образом. Ему нужны вопросы, но он не нуждается в собеседниках. Оппонент в беседе — лишний элемент для писателя. Отвечая, Шукшин не встречал взглядов, сам мог приводить требуемые для рассуждений доводы, зная, возражений не последует.
Перед Шукшиным ставилась проблематика переезда деревенского в город. Таковым был и сам Василий. Почему он посчитал необходимым покинуть село? Можно приводить различные предположения, основное останется неизменным — лишь город способен дать творческому человеку способность для самовыражения, если требуются определённые условия. Вот будь в Сростках киностудия, Василий соглашался сразу покинуть город и поселиться в деревне. Не дело, если придётся зарывать талант только из-за необходимости поддержать деревенских в споре о том, где всё-таки лучше жить.
В статье «Средства литературы и средства кино» Шукшин говорил о наболевшем. Когда литература экранизируется — редко удаётся услышать похвалу. Обычно ругают! А если не ругают, предпочитают отмалчиваться. Теперь возьмём литературный базис, создаваемый специально под кино — за художественное произведение его не считают, в литературных журналах не публикуют. Или давайте возьмём один и тот же сценарий, раздадим пяти режиссёрам, в итоге получим фильмы, имеющие мало сходства, разве только они созданы по мотивам определённого текста. Ещё в этой статье Шукшин решился перестать снимать кино по собственным рассказам, думая создавать сценарии с нуля.
Желаемое быстро реализовывалось. Статьёй «Меня давно привлекал образ» Шукшин делился с читателем мечтой — снять фильм о Стеньке Разине.
Написана Василием и статья «Нравственность есть Правда». Проблема искусства кино ведь и в том, чтобы зритель воспринимал происходящее на экране без осуждения. Если человеку не нравится действующее лицо, то разве вина в том сценариста или режиссёра? Особенно в случае, когда персонаж списан с прототипа, полностью схожего. Шукшин уверен — ни о какой безнравственности тогда и речи быть не может. Другое дело, когда персонаж полностью выдуман.
Для примера Василий приводил главного героя фильма «Живёт такой парень». Хотелось показать обаятельного молодца, готового помогать всем людям, не требуя за то ответной услуги. Разве таким принял зритель главного героя? Можно увидеть разное, не заметив идеи автора. Но тут следует признать ошибку в мнении самого Шукшина. Если хочешь быть понятным — дай намёк. Допустим, приведи в пример соответствующий эпиграф или сразу скажи прямым текстом, на какой момент следует обратить пристальное внимание, дабы не стать жертвой суждений, берущих начало из проблем воспринимающего.
Автор: Константин Трунин