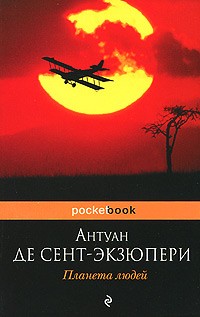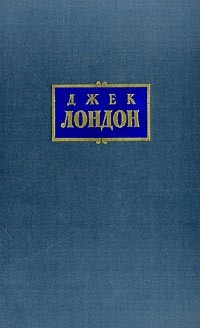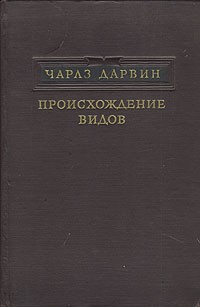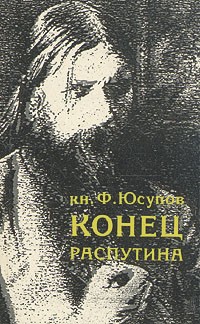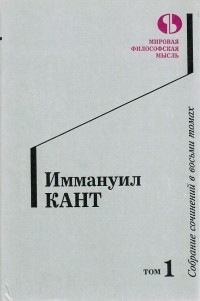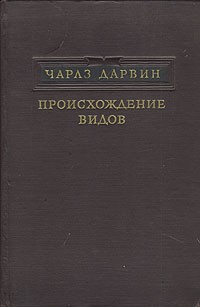
При жизни «Происхождение видов» Чарльза Дарвина выдержало шесть изданий, постоянно пополнялось и наконец в 1872 году приняло окончательный вид, который ныне принято считать за основу для понимания основополагающих моментов. Труд монументальный и не так прост для чтения, как может показаться на первый взгляд. С ним лучше разбираться по частям, не пытаясь охватить всё содержание сразу. Ныне текст трактата, будем далее труд «Происхождение видов» называть именно так, содержит предисловия от различных маститых академиков, автобиографию, исторический очерк воззрений от автора, введение, пятнадцать глав и иногда встречается библиографический очерк от сторонних специалистов.
Автобиография. Дарвин рассказывает о себе. Каким он был доверчивым человеком, как ему везло и не везло одновременно. Сперва он отцом был отправлен учиться на медика в Эдинбург, там ему захотелось учиться на пастора в Кембридже. Когда же ему выпала уникальная возможность совершить бесплатное кругосветное путешествие на «Бигле» в качестве натуралиста, то судьбу будущей теории естественного отбора чуть не решил дарвиновский нос, не понравившийся капитану корабля, поскольку выдавал в Дарвине человека, которому, мягко говоря, лучше не доверять. Желание систематизировать всегда сопровождало Дарвина. Благодаря этому пристрастию он научился предугадывать, что ему следует ожидать в местах, где он до того не бывал. Также ему помогали труды Лайеля по геологии — он постоянно ими восхищался, настолько они облегчали ему работу.
Исторический очерк воззрений о происхождении видов до появления первого издания. Дарвин прямо говорит о работах, предшествовавших его теориям. Не в результате одних наблюдений был написан трактат. Дарвин постоянно думал о необходимости написать Зоологию путешествия на «Бигле». К тому его склоняли размышления многих людей, особенно Уэлса, Ламарка, Сент-Илера, Гранта и Мэтью. То есть научный мир уже не раз успел обсудить следующие идеи: все виды животных (за исключением человека) произошли от других видов, все существа стремятся к самосовершенствованию и лучшему приспособлению, допущение борьбы животных за существование, виды по мере изменений совершенствуются, периодическое опустошение мира и заселение его заново.
Глава I — изменчивость в прирученном состоянии. Человек с древних времён вёл селекцию, неосознанно улучшая домашних животных и растительные культуры. Делал он это под свои потребности, дабы получать требуемые характеристики от животного или повышать вкусовые, эстетические и прочие качества у растений. Работа велась по наитию и согласно негласным порядкам. Использование сторонних источников информации, вроде сочинений Вергилия, облегчало процесс. Наблюдений за происходящими изменениями не велось, на глаз их оценить не представлялось возможным. Получается, человек искусственно улучшал виды под себя, устраняя дефекты и допуская для размножения только лучших представителей. Этот очевидный факт сам по себе служит показательным примером изменчивости видов, но он не до той степени самодостаточен, чтобы предполагать происхождение одних видов от других.
В качестве примера Дарвин предлагает голубей. Благодаря стараниям человека, они настолько различны, что найди их орнитолог в наши дни, он никогда бы не стал их относить к одному виду, хотя общим предком принято считать продолжающего здравствовать горного голубя. С собаками сложнее. Даже Дарвин не уверен в существовании для них общего предка. Впрочем, Дарвин в те годы не понимал принципов наследственности, либо он не стал включать предположения об этом в трактат, ограничившись предположениями в другом своём позднем труде.
Для наступления изменений должны действовать разнообразные факторы. Сказывается не только окружение видов, но и задействование или незадействование частей и функций организма. Из чего следует развитие или регресс. Например, Дарвин предполагал, если домашнее животное поместить в дикую среду, то оно предастся обратному развитию. Эволюция наоборот возможна? Проблема усугубляется сомнениями Дарвина, когда он не имеет представлений о предыдущем виде, ежели тот, допустим, вымер. Не имея свидетельств о чём-то, никогда не сделаешь правильных выводов. Остаётся предполагать.
Дарвин правильно сделал, начав с допущения изменчивости в прирученном состоянии. Человек обязательно задумается и соотнесёт его слова с имеющимися под рукой примерами. И задумается над собственной бессознательностью, найдя сходство во многом. Разве не улучшал он тех же голубей или не отбирал лучших представителей для получения улучшенных пород собак, овец и лошадей? И разве не видел, как потомство получалось лучше родителей? Благодаря Дарвину это нашло объяснение. Пускай и более расширенное, нежели требовалось.
Глава II — изменчивость в естественном состоянии. Природа удивительна многообразием. Она постоянно изменяется и нет в разных местах похожих друг на друга животных — обязательно имеются отличия. Пусть в цвете или форме, но имеются. Это будет объяснено Дарвином в последующих главах. Пока же нужно придти к осознанию доступного пониманию многообразия, едва ли полностью позволяющего его осмыслить. Достаточно посадить чуждое местности дерево, как жизнь вокруг него меняется, вступают в действие новые процессы, но и объяснение этого тоже впереди.
Дарвин постоянно сомневается. Он не знает, что считать видом, а что подвидом. Ему не хватает материала, поэтому он говорит в общих словах. Да и не так важно, данной проблемой предстоит заниматься другим учёным. Дарвин же поставил задачу объяснить теорию естественного отбора, для чего сперва нужно исходить из простых доказательств. Доведя до сведения принцип изменчивости одомашненных животных и растений, настало время рассказать о происходящих процессах в мире вне влияния человека.
Предполагается следующее — широко расселённые, распространённые и обыкновенные виды наиболее изменчивы. Вопросов тут не возникает. Такие виды действительно более подвергаются изменениям, поскольку на них это проследить получится лучше, нежели на видах, обитающих в одной местности и потому не имеющих дополнительных факторов, способных на них повлиять иным образом. Другими словами, чем вид шире распространён, тем он обладает большей способностью к изменчивости, иначе он не сможет приспособиться к новым условиям. Рассматривая сию особенность за краткий отрезок выводов не сделаешь, поэтому Дарвину ещё предстоит озадачиться фактором требуемого для изменений времени и количества поколений.
Из этого проистекает проблема трудности систематизации видов. Природа контролирует сама себя. Запускаются механизмы приспособления, изменяется потомство, либо вид исчезает, не сумев приспособиться. Теперь человек пытается бороться с природой и сохранять обречённое на вымирание. Интересно, как бы к этому отнесся Дарвин? Как бы он отнёсся вообще к той степени влияния деятельности человечества на всю планету, то есть на множество процессов одновременно, ставя тем самым животный и растительный мир перед точкой невозврата? Понятно, кто изменится — тот и выживет.
Глава III — борьба за существование. Дарвин последовательно излагает теорию происхождения видов. Трактат построен по типу единого доказательства. Одно в тексте вытекает из другого. Сперва объяснив простому обывателю ему понятные явления, через вещи посложнее дело подошло к важнейшей составляющей части его теории. Собственно, что означает термин «борьба за существование»?
Под борьбой за существование Дарвин понимает именно борьбу, но не только с неблагоприятными обстоятельствами, а также внутри каждого вида. Любое существо тянется к солнечному свету, источнику с водой и корму, старается продлить род. Все факторы учесть невозможно. Разве можно предположить, что рост количества кошек служит причиной исчезновения анютиных глазок? Причина заключается в промежуточных звеньях: мышах и шмелях.
Как проявляется борьба за существование? Во-первых, размножение с геометрической прогрессией, как способ преодолеть неблагоприятные условия среды (пара слонов за тысячу лет даст жизнь невероятному количеству особей). Во-вторых, особенно сильное размножение при неблагоприятных условиях, когда есть угроза исчезновения (чем меньше убивают кроликов, тем медленнее они плодятся). В-третьих, преодоление между всеми животными и растениями сложных соотношений (достаточно изменить одну составляющую, чтобы запустились новые процессы борьбы). В-четвёртых, борьба на уровне каждого вида (что Дарвином объясняется введением понятия «половой отбор»).
Глава IV — естественный отбор, или переживание наиболее приспособленных. Необходимость борьбы объяснена с достаточной убедительностью. Теперь общественность была готова к пониманию теории естественного отбора. Для начала Дарвин оговаривает вероятность случайного уничтожения видов, как неподдающийся учёту фактор. И сразу переходит к обсуждению внутривидовой борьбы, именуемой им половым отбором.
В чём суть полового отбора? Например, рога у оленя, грива у льва, оперение у птиц: требуются именно для продолжения рода. Самый сильный или красивый, либо голосистый, способен завоевать самку, спариться с ней и произвести более лучшее потомство, способное превзойти родителей. Тем самым вид совершенствуется — неугодные представители отбраковываются.
Дарвин приводит обстоятельства, способствующие образованию новых форм, размышляет о разных процессах, влияющих на естественный отбор. Тема сложна для понимания, особенно трудно она даётся Дарвину. Необходимо искать примеры для доказательства теории, делая её более наглядной, дабы убедить сомневающихся и отрицающих. Но теория кажется одновременно с этим понятной и логичной. Однако, Дарвин прибегает к помощи формул и схем, делая теорию поистине научной, основанной на доказательной базе. Чарльз оговаривает высший предел, к которому стремится любая организация. Оговаривает и редкость видов, как неминуемую угрозу вымирания.
Основное Дарвином сказано. Борьба за существование им обоснована. Есть ряд сомнений в теориях, неизбежно устраняемых невозможностью оценить влияние абсолютно всех факторов.
Автор: Константин Трунин
» Read more