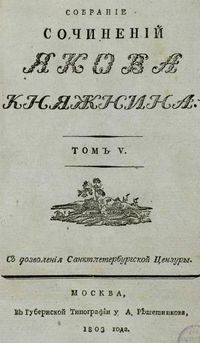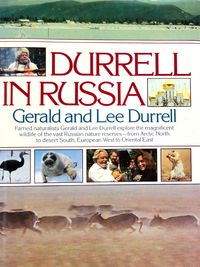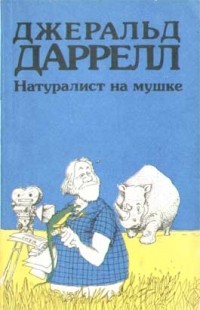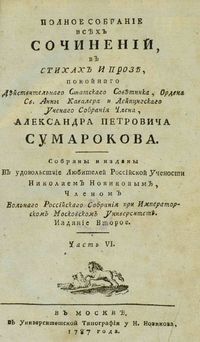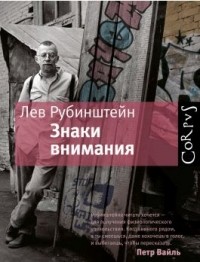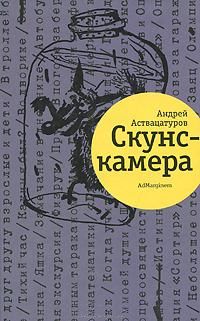Карел Чапек “Как ставится пьеса” (1938)
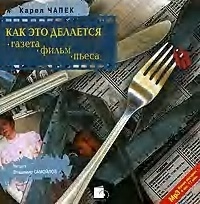
Похоже, Чапек куражится. С описанием создания газеты и фильма он не был столь категоричен, как выступил в отношении постановки пьесы. Тут действительно есть от чего придти в ужас и навсегда забыть, вспоминая только в качестве некогда приснившегося кошмара. Кто бы мог подумать, каких сумасбродов набрали в театры, коли им свойственно такое отношение к осуществляемой ими деятельности. Конечно, Карел излишне категоричен и чересчур в чёрных красках всё описывает. А если нет?
Тяжело автору предложить театру пьесу. Она обязана отлежаться, дожидаясь некоего момента, дабы суметь привлечь к себе внимание. Но и тогда не следует радоваться, ежели та пьеса принадлежит твоему перу, Ещё не раз предстоит расстроиться, наблюдая за отношением к когда-то выстраданному тексту. Достаточно такое представить, и не раз подумаешь отказаться от сотрудничества.
Казалось бы, нет ничего проще, чем отобрать актёров. Их много — бери любых. Но на деле не так. Скорее всего все они окажутся заняты, больны или не согласятся принимать участие в постановке. И даже когда с актёрами получится определиться, они вольны заболеть или быть занятыми в других постановках, отчего снова прибавится проблем.
Да не в том главное затруднение. Таковое следует искать в основном лице, ответственном за постановку. У него имеется собственное представление о понимании содержания произведения. Как не доказывай ему автор, переубедить он не сможет. Можно и не пытаться переубеждать, один творец не способен понять другого творца.
Примечательным является первое чтение пьесы. Чапек призывает на него не ходить. Актёры без костюмов, одеты повседневно, произносят текст с листа. Складывается впечатление, будто никто в постановке пьесы не заинтересован. Актёры вынуждены исполнять порученное им задание. Потому пока ещё не стоит строить иллюзий относительно будущего успеха или провала пьесы.
Проблем предстоит хлебнуть на всех этапах. Одежда будет плохо пошита, декорации созданы отвратительного вида. И это малое из того, о чём лучше не задумываться. Чапек всем этим прямо намекает, адресуя текст скорее создателям пьес, дабы они не питали каких-либо надежд. Ежели в твоём труде заинтересовались, то отдай им пьесу и не проявляй к работе над её постановкой интереса, чем убережёшься от нравственных страданий.
Худо дело окажется на генеральной репетиции. Ещё хуже на первой постановке для зрителя. Актёры будут забывать слова, продолжать соответствовать изначальному о них мнению. Истинно, Чапек показывает людей с недалёким умом, непонятно за какие качества ценимые посетителями театральных представлений. Но именно на этих людях всё и держится, посему нужно скрипеть зубами, соглашаясь со всеми предъявляемыми требованиями.
Как бы пьесу не поставили, о ней никто не выскажет определённого суждения. Зрители останутся при разном мнении. Театральные критики напишут отличные друг от друга рецензии. И неважно, какое количество раз пьеса удостоится постановки. Если состоится много представлений, это не означает её успешности, скорее говорит о невзыскательном вкусе зрителя. Малое количество постановок не скажет о провале, скорее о недооценённости.
Карелу осталось рассказать о прочих работниках театральной сцены, с которыми автору пьесы практически никогда не приходится сталкиваться. Тут есть о ком сообщить, ведь кто-то занимается созданием облика актёров, установкой декораций между актами, руководит светом. И у этих людей есть свои сдвиги профессиональной деформации, мешающие им иметь огромную долю ответственности за проделываемую ими работу.
Тяжелое это дело — ставить пьесу. Не менее тяжелое, нежели выпускать ежедневную газету или создавать фильм. Приходится работать с разными людьми, волею судьбы исполняющих определённые обязанности. Самое важное к пониманию, результат всё равно получается. Выходит он приемлемым, обыкновенно таким, каким ожидался.
Автор: Константин Трунин