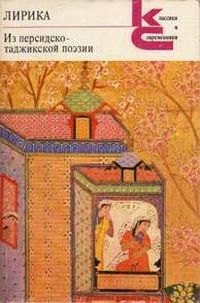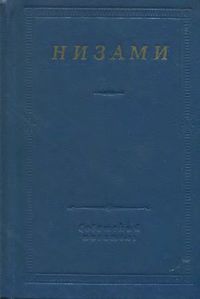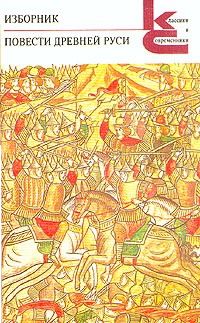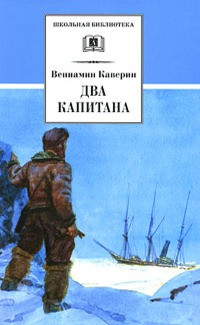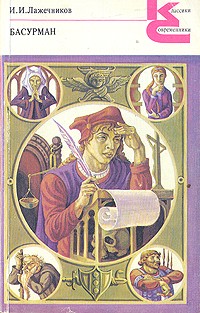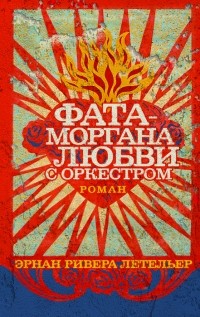Александр Пушкин «Руслан и Людмила» (1820)
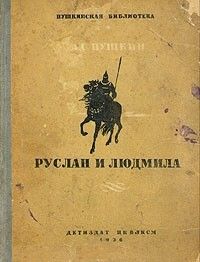
В душе поэта есть мечта. Без той мечты не может жить поэт. Мечта его на взгляд легка, но тяжелее её нет. Желает написать поэму он, а написать поэму сложно: в свой слог поэт влюблён, мнится ему — написать возможно. И вот идея появилась, за то благодарность Карамзину, мечта почти осуществилась, осталось сложить поэму свою. О древности седой, о богатырских подвигах писать, любовью строки переполнить, читателю пора об истории канувшей узнать, забытое былое вспомнить. Пусть сплошь вымысел в сказе героическом, то не опечалило поэта, не было идеи в подлинно историческом отражении придуманного им сюжета. Показана сказка, прочее пустяк, поэт указал направление: для склонных к античности то был знак, о чём должно быть их стихотворение.
Зелёный дуб известен многим, и Лукоморье знакомо нам, про князя Красное Солнышко мы помним, не забывается сказитель древности — Баян. О них поведал Пушкин снова, а может он поведал в первый раз, взятая им сюжетная основа, знакома всем, но дальше мрак для нас. Руслан — герой, Людмила — его любовь, Черномор — злодей, и кот имеется учёный, сколько память запомнить детали не готовь, при перечтении сказ Пушкина, как новый. Почему так обстоит, загвоздка в чём? В годах ли Александра ранних? Читаем стих — прекрасен он. И прочее нам кажется из славных.
То хорошо, когда красивое без критики живёт. Красивое испортить просто очень. Ничто в красивом не умрёт, будь критик в словах аккуратно точен. Зачем укор высказывать поэту? Поэт старался, рифму подбирал. Он удружил народу русскому и свету, былины на свой лад пересказал. Теперь мы знаем, а могли не знать, имеем должное видение былого, в любое время теперь можем указать всем заблуждающимся на образец от Пушкина молодого. Фантазия людей есть благо, и оно — проклятие людей, чем дальше от искони они, чем отдалённее от прошлых дней, тем разительней высказывают мнения свои. Поэтому, забывшим это, на вид поставим Пушкина стихи, пусть не очерняют лето, предвестием убивающей прошлое зимы.
Что же Пушкин, для чего поэму написал? Он сам не думал ни о чём. Сюжет понравился, слагать стихи тем стал, лишь данное, пожалуй, мы учтём. Он поэму дамам посвятил, чьи чары в плен берут сердца мужчин, для них он образ доблести открыл, раскрыв его на полотне шести картин. Кого любить — решать не Пушкину, но всё же, и Пушкин мог мечтать, он представлял супругов юных на брачном ложе, пример развития событий решил он показать. В тумане радостном, не понимая предстоящего, лучше отразить действительность, окрасив сказкой элементы настоящего, невидимое сразу обратить в видимость. Кто понял мысль, её возьмёт для понимания: под карликом поймёт мужа униженного, под шапкой ему привидятся милые создания, скрывающиеся от очевидного.
Нет нужды искать подобное в сюжете. Что это даст, зачем искать? За прошлое мы все итак в ответе. Для развлечения лишь можем указать. Поэма сложена, она читается, известна. Есть мудрость в строках и меж строк. Руслан — герой, герой — его невеста. Иного Пушкин нам сказать не мог. Кто молод, тот добьётся, о старости не стоит думать никому, лишь сложно тем живётся, кому пришлось быть одному. А если сила есть в руках, друзья дают тебе совет, готов ты подвиги свершать, иди вперёд, пока не отяготился грузом лет, о тебе будут вспоминать.
Автор: Константин Трунин