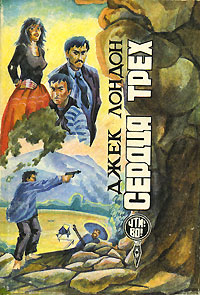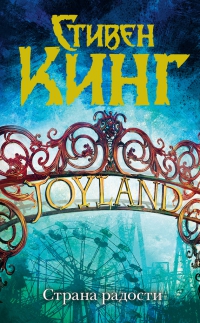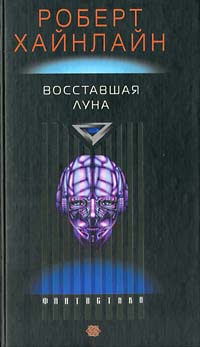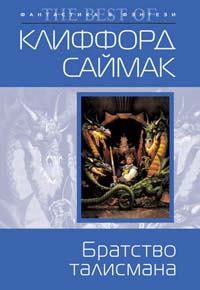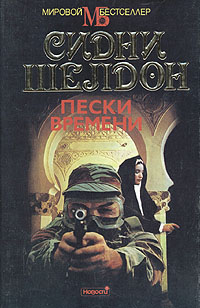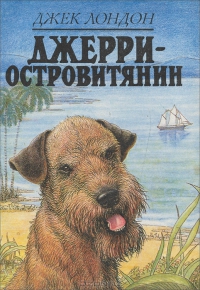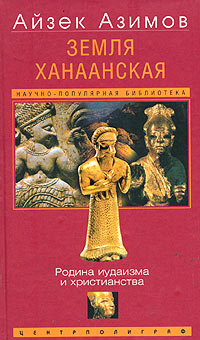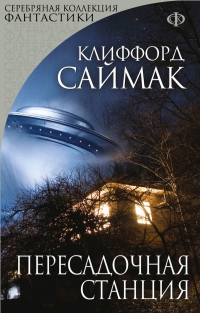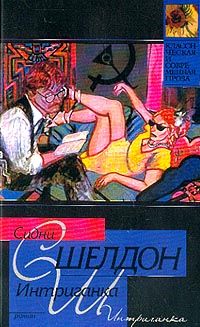Юрген Вольф «Школа литературного мастерства» (2007)
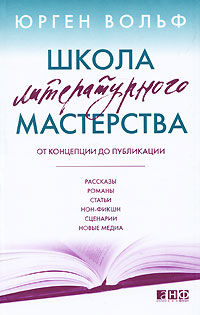
Чем отличается профессионал от любителя? Профессионал за свою работу получает деньги, тогда как для любителя его занятие становится всего лишь лекарством от скуки и, возможно, увлечением всей жизни. В писательском мире тоже допустимо делить авторов на профессионалов и на тех, кто пишет для себя. Кажется, стоит написать книгу, как издатели жадно к ней потянут свои руки, чтобы поскорее заключить с тобой договор на издание. Однако, мир более жесток, нежели это представляется в процессе работы над книгой. Многим, ныне именитым авторам, в своё время отказывали в публикации, а некоторым отказывали и после признания и даже успешных продаж. Всё решается волей случая: трудно изначально понять кому всё-таки быть читаемым и продаваемым, а кто так и останется в любителях, надеясь уже после смерти быть обласканным славой одумавшихся потомков. Нет однозначного рецепта, и Юрген Вольф в этом плане может только мотивировать творить, бороться за свои интересы и никогда не отчаиваться.
«Школа литературного мастерства» — добротно сделанная книга о писательском мастерстве, где автор разложил всё по полочкам, начав с самого главного, призвав не бояться писать книги. Нет ничего сложного в том, чтобы однажды реализовать мечту, излагая на бумагу свой внутренний мир. Этому процессу будут сопутствовать страхи: кому-то не хочется лишнего ажиотажа вокруг своего имени, кто-то боится раскрыть эмоции, иным же не удаётся продвинуться дальше первого предложения. Одолеть всё это легко, достаточно познакомиться с методами преодоления трудностей, коими Юрген Вольф с большим знанием дела делится, имея за плечами многолетний опыт удач и падений. С чем-то читатель согласится, а что-то будет отрицать — это нормальное явление, если человек подходит к решению проблемы с высоты присущего ему вкуса.
Юрген Вольф не скрывает важность коммерческого успеха для книги. Писателю нужно всегда быть в центре внимания, рекламируя себя самостоятельно. Если о тебе впервые слышат в издательстве, отказывая в публикации только из-за нежелательных затрат на раскрутку нового автора, то не следует ожидать читателей, более критично относящихся к неизвестным людям, которые что-то там написали, особенно учитывая количество книг вообще. Можно засветиться на телевидении, а можно сперва добиться популярности в интернете, когда верные поклонники творчества будут тебя поддерживать во всех начинаниях. Как это всё сделать — частная проблема всех начинающих писателей. Если нужен успех, то он не придёт без работы над методами его достижения.
Стать писателем и заработать много денег — мечта литератора. Надо долго и упорно трудиться, чтобы из-под твоего пера стало выходить что-то вразумительное. А если при этом надеяться на обильные продажи с самой первой книги, то можно эмоционально сломаться. Юрген Вольф видит в возможности писать книги только способ одного из заработка денег, унижая эту творческую работу саму по себе, предлагая читателю «Школы литературного мастерства» такие подходы, что дадут максимальную отдачу. Пострадает при этом не только начинающий писатель, в которого закладывается не потребность в самовыражении, а вырождение в продукт для толпы, создающий что-то на потребу дня, минуя уважение к самому себе. Юрген не забывает давать действительно полезные советы, но некоторые аспекты призваны упростить процесс работы над книгой до минимума, отчего создаётся не высокохудожественное произведение, а средняя поделка для недалёких умом читателей, не способных шевелить мозгами и искать в книгах внутреннюю философию, ограничиваясь короткими диалогами и сюжетом мелкого пошиба.
Что же полезного можно найти в «Школе литературного мастерства»? Юрген Вольф хорошо показывает необходимость будущему писателю чётко представлять то, о чём он пишет. Если душа рвётся объять необъятное, то Юрген призывает чётко определиться с той линией повествования, которая будет в дальнейшем использоваться не только в конкретной книге, но и во всех последующих. Если автор решает сконцентрироваться на криминальных детективах, то вот пусть и пишет их до конца жизни. Главное — иметь постоянного читателя и стабильный доход: другого вывода из рассуждений Юргена сделать нельзя. Если вдруг писатель задумает строить диалоги с эмоциональной окраской, помещая в них всё действие, то Юрген наоборот не видит в этом необходимости, призывая к краткости и лёгким намёкам на говорящего, будто читатель не книгу читает, а смотрит фильм, самостоятельно понимая тот порыв, который отражается на лицах актёров. Юрген вступает в противоречие с самим собой, предлагая в качестве идеала для подражания Чарльза Диккенса, отличавшегося особым умением описывать сцены, создающие в воображении читателя ощущение полного присутствия. Только Диккенс никуда не торопился, а современный читатель не всегда обладает той усидчивостью, чтобы бесконечно долго читать про страсти вокруг чего-то одного, не имея возможности наблюдать развитие сюжета.
Даже вдохновение для Юргена — это механическая составляющая писательского мастерства. Нельзя ждать музу, когда горят сроки сдачи материла. Для этого автор «Школы литературного мастерства» разработал ряд упражнений, дающих любому писателю шанс писать по много страниц в день, имея возможность сравняться с самим Стивеном Кингом, а может даже и с упомянутым выше Чарльзом Диккенсом. Главное, писать не думая, чтобы уже после десяти авторских листов наконец-то погрузиться в бездну написанного, выискивая основной сюжет, компонуя листы в более логичном порядке. Действительно, получается что-то вроде книги, которая уже является плодом долгой кропотливой работы. Можно в процессе дополнительно написать биографию каждого персонажа, задавая себе бесконечные вопросы: «Зачем?» и «Почему?», дающие возможность более детально проработать сцены. Конечно, можно ещё спать по сорок пять минут, находя вдохновение в сновидениях, или прибегать к помощи собственного жизненного опыта. Важно, чтобы в итоге получилась книга, которую можно будет продавать.
Любая книга найдёт своих читателей. Вопрос только в том — сколько же она их найдёт?
Автор: Константин Трунин