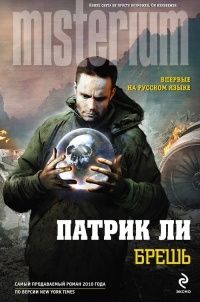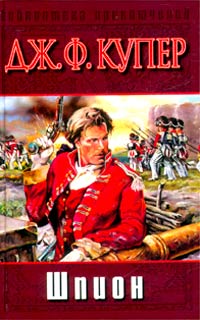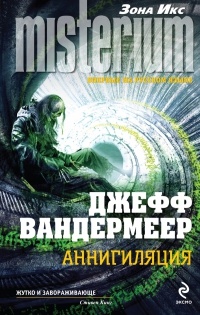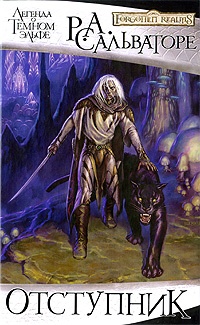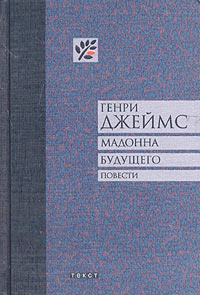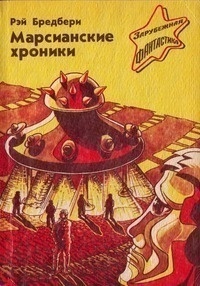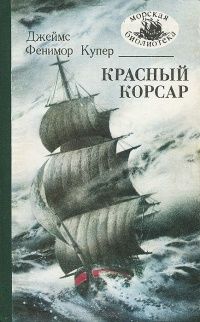Генри Джеймс «Ученик», «Урок мастера», «В клетке» (1891-98)
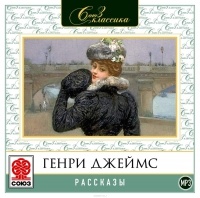
Малая заинтересованность творчеством Генри Джеймса за пределами англоязычного мира легко объясняется своеобразным стилем писателя. Его произведения обязательно содержат в себе глубокую суть, до которой очень трудно добраться. Переваривать внутри себя загадочные хитросплетения сюжета — непосильная задача Складывается впечатление, будто Генри Джеймс писал для интеллектуалов, на досуге почитывающих нетривиальные книги, способные пролить каплю бальзама на их трепетное неприятие к увлечению масс литературой сомнительного качества. Только вот быть выше других — не значит писать достойные общества произведения. Джеймс не желает делиться с читателем линейным сюжетом, постоянно предлагая вместо этого подобие сумбура: есть определённая история, она не будет полностью раскрыта перед читателем, персонажи о чём-то говорят, внимание читателя парит в стороне от происходящих событий… И вот занавес опускается. Не хватает Джеймсу места, поэтому рассказы не являются важной стороной его творчества.
Генри Джеймс писал много. И большая часть не переводилась. Всё это пылится на полках британских библиотек. Остаётся внимать тому, что доступно на языке читателя. Сомнительно, чтобы переведены были именно те труды, за которые Генри Джеймса принято уважать. Особняком стоит книга «Трофеи Пойнтона», такое же важное значение имеет произведение «Мадонна будущего». А вот всё остальное — для эстетов, не имеющих ничего лучше, чем изобразить из себя ценителей хорошей литературы, выискивая в рассказах писателя смысл, при отсутствии оного там вообще. Однако, поймать важное можно в любом произведении. Кое-что действительно есть и у Джеймса. Правда для этого надо много раз его перечитывать, если у кого есть такое желание.
Русскоязычному читателю доступно малое. А именно сейчас лишь три рассказа «Урок мастера», «Ученик» и «В клетке». Не сказать, чтобы в них было то самое зерно, способное дать ответ на важные вопросы. Ничего особенного найти в них точно не получится. Даже можно смело сказать — Генри Джеймс чересчур сумбурен. Слагать буквы в слова — это одно, но нужно и делать это не ради самого процесса, а именно для чего-то определённого. Чтобы хоть мораль какую-нибудь читатель вынес. Поскольку развлечь себя рассказами Джеймса невозможно, то что-то обязано приковывать читательский интерес. Да вот не приковывает. Бесконечные диалоги всё дальше уводят мысли читателя от первых строк произведений, в итоге обрываясь там, где внимающий тексту человек уже заблудился в хитросплетениях повествовательной линии. Возвращаешься назад и идёшь тем же путём снова. Вновь потерялся.
Беда малой формы Генри Джеймса ещё и в том, что читатель может нащупать почву сюжета, да вот сам сюжет стабильностью не отличается. И было бы дело в диалогах действующих лиц. Отнюдь. Джеймс старается построить многомерное полотно, часто сбрасывая читателя на разные его уровни. Казалось бы, внимая одной истории, неожиданно оказываешься при развитии других происшествий. Генри Джеймс хаотичен. С этим уже ничего не сделаешь.
Заслугой Джеймса является его особый взгляд на британскую действительность. Будучи от рождения американцем, он переехал на Туманный Альбион, сменив гражданство. Возможно, в родной стране ему не хватало того, что он для себя нашёл в новом краю. Взгляд иностранца всегда важен — при всей своей предвзятости он остаётся объективным отражением того, о чём люди не задумываются, принимая происходящее за нормальный ход вещей. И опять же, такой подход Джеймса может оценить только англичанин, в чей огород бросают камень. Иные наблюдатели просто не поймут, если не знают о Британии больше, нежели общеизвестно.
Автор: Константин Трунин