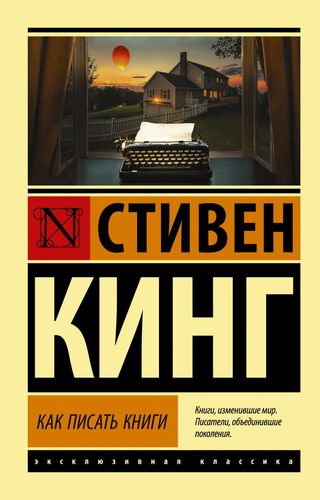Oтесса Мошфег «Мой год отдыха и релакса» (2018)
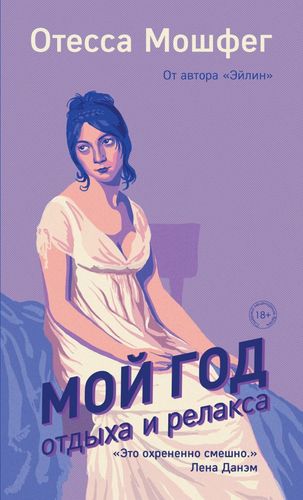 В очередной книге Отесса Мошфег пошла по прежде проторенному пути, представляя читателю ещё одного социопата. Настолько отвратительного, что непонятно, каким образом с ним соглашались взаимодействовать окружающие. Может такое возможно лишь в «благословенной» Америке? Кому доставит удовольствие, когда с тобой коммуницирует человек, от которого смердит за километр? Пусть Отесса опустила данный момент, дозволяя читателю видеть просто немытого человека, вовсе забывающего смотреть в зеркало. То есть какой должна быть реакция, если к тебе обращается женщина, явно грязной наружности, к тому же с остатками присохшей к лицу пищи? Надо полагать, автор умолчала о той самой пище, может уже когда-то переработанной, извергнутой и… Но Отесса ссылается сугубо на присохшую зубную пасту. Увы, читатель способен видеть ему сообщаемое между строк. Однако, у всего этого, конечно же, есть благоприятная для восприятия мораль.
В очередной книге Отесса Мошфег пошла по прежде проторенному пути, представляя читателю ещё одного социопата. Настолько отвратительного, что непонятно, каким образом с ним соглашались взаимодействовать окружающие. Может такое возможно лишь в «благословенной» Америке? Кому доставит удовольствие, когда с тобой коммуницирует человек, от которого смердит за километр? Пусть Отесса опустила данный момент, дозволяя читателю видеть просто немытого человека, вовсе забывающего смотреть в зеркало. То есть какой должна быть реакция, если к тебе обращается женщина, явно грязной наружности, к тому же с остатками присохшей к лицу пищи? Надо полагать, автор умолчала о той самой пище, может уже когда-то переработанной, извергнутой и… Но Отесса ссылается сугубо на присохшую зубную пасту. Увы, читатель способен видеть ему сообщаемое между строк. Однако, у всего этого, конечно же, есть благоприятная для восприятия мораль.
Как бы не вела себя главная героиня, упор делается на её отчуждённости от мира. Что тому способствовало? Надо полагать, сложившиеся в обществе обстоятельства, которые ведут к многократно усиливающейся деградации. Говоря проще, некоторая часть людей перестала испытывать реальные проблемы, купаясь в изобилии благ. Вернуть бы их к годам потяжелее — допустим, во времена Великой депрессии. Насущным станет единственное — добыть пропитание. Добыть любым способом. Иначе впереди ожидает смерть от голода. Ничего уже не поделаешь — до новой Великой депрессии может быть чрезмерно далеко. Тогда следует воспринять сообщаемую автором мораль под другим углом.
Главная героиня желает постоянно пить снотворные, чтобы провести жизнь во сне. Тут бы задуматься о философии эскапистов. Только вот нет в жизни главной героини проблем. Она получила хорошее наследство, может забыть о необходимости трудиться. То есть у человека вовсе нет стимулов. Ей нечего желать. Если и устраивается на работу, то без намерения исполнять обязанности. Что она сделает перед увольнением? Осуществит акт дефекации на рабочем месте. И так со всем в жизни главной героини: она исповедует наплевательское отношение. А если нет интереса к происходящему, считает за лучшее ничего вокруг не замечать.
Так к какой морали Отесса Мошфег подводила читателя? Убегая от жизни, главная героиня не заметит, в какой степени изменится мир. Пока Америка пребывала в сладком неведении, упиваясь могуществом, созревали иные силы, способные нанести удар по её самолюбию. Причём здесь это? — спросит читатель. Так ведь не одна главная героиня предпочитала проводить время во сне. Тем занимались многие. И не обязательно именно спали, скорее забыв о существовании других. Иначе нельзя понять, почему финальным аккордом произведения становится атака террористов на башни-близнецы. Разве не об этом хотела сказать Отесса читателю?
Если читатель склонен думать иначе, он может выразить мысль о судьбе Александрийской библиотеки, некогда сожжённой арабами, когда они стали разбираться с хранящимися там текстами, найдя нечто о чрезмерном разврате жителей Древней Греции и Римской империи. Потому и читатель не против данный труд Отессы Мошфег подвергнуть сожжению. Беда тут заключается в неспособности большинства людей размышлять над им сообщаемой информацией. Тогда почему Отесса не написала о том прямо? Будем думать, она вовсе ни о чём таком не задумывалась. Все эти измышления — плод мыслей из желания найти хотя бы крупицу полезного.
Осталось понять, почему про «Мой год отдыха и релакса», как и про «Эйлин», ряд читателей, преимущественно американцев, отзывались как о невероятно смешных книгах? Или всё, написанное Отессой Мошфег, на самом деле является образчиком чёрного юмора? Что же… смейтесь, глупцы, а после пожнёте.
Автор: Константин Трунин
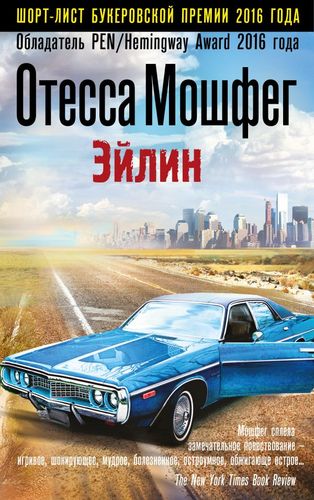 Первую книгу всегда трудно написать. Чаще всего она выходит комом. И не случись такого, чтобы за неё кто-то взялся хвалить автора. Наоборот, надо дать надежду на необходимость продолжать совершенствоваться… а этот труд — убрать с глаз подальше. Отессе Мошфег не повезло — на неё обратили внимание. Причём приметили довольно серьёзно. Книга вошла в короткий список Букеровской премии. А Букеровская премия для англоязычного писателя — знаковый фетиш. Не каждый мэтр пера удостаивается хотя бы номинации. Другое дело, её лауреатами становились произведения, смысловая ценность которых сводилась к нулю. И получи Отесса Букера, пришлось бы о том сказать погромче. Но в одном можно быть уверенным точно — в дальнейшем Мошфег продолжит идти первоначально намеченным путём. А если сделать попытку разобраться, насколько произведение Отессы вообще могло на что-либо претендовать?
Первую книгу всегда трудно написать. Чаще всего она выходит комом. И не случись такого, чтобы за неё кто-то взялся хвалить автора. Наоборот, надо дать надежду на необходимость продолжать совершенствоваться… а этот труд — убрать с глаз подальше. Отессе Мошфег не повезло — на неё обратили внимание. Причём приметили довольно серьёзно. Книга вошла в короткий список Букеровской премии. А Букеровская премия для англоязычного писателя — знаковый фетиш. Не каждый мэтр пера удостаивается хотя бы номинации. Другое дело, её лауреатами становились произведения, смысловая ценность которых сводилась к нулю. И получи Отесса Букера, пришлось бы о том сказать погромче. Но в одном можно быть уверенным точно — в дальнейшем Мошфег продолжит идти первоначально намеченным путём. А если сделать попытку разобраться, насколько произведение Отессы вообще могло на что-либо претендовать?
 Если читателю не нравится книга, нужно поступить проще — понять отрицание через осмысление авторского нарратива. Кому может понравиться, когда повествование идёт о женщине вольных нравов, страдающей психическим отклонением в виде постоянных мыслей о сексуальном удовлетворении? Может показаться, чтение писательских фантазий ни к чему не сподвигнет. Однако, в самую первую очередь нужно обратить внимание на возраст Эрики Джонг. Она из того поколения американской молодёжи, на которое пришёлся расцвет движения хиппи. То есть когда пропагандировалось свободное отношение к жизни, выраженное через отказ от навязываемых государством запретов. Это, в свою очередь, породило изменение в самосознании многих молодых людей, начавших воспринимать жизнь в извращённом её представлении. А раз при взрослении психика надломилась — исправить этого уже не сможешь. Но как-то ведь следовало продолжать жить. И как бы всё не складывалось в дальнейшем, образ мыслей показывал человеческое естество в натуральном виде. Поэтому, чтобы понять и принять произведение за авторством Эрики Джонг, нужно самому иметь аналогичные пристрастия, либо проявлять интерес в силу профессиональной деятельности.
Если читателю не нравится книга, нужно поступить проще — понять отрицание через осмысление авторского нарратива. Кому может понравиться, когда повествование идёт о женщине вольных нравов, страдающей психическим отклонением в виде постоянных мыслей о сексуальном удовлетворении? Может показаться, чтение писательских фантазий ни к чему не сподвигнет. Однако, в самую первую очередь нужно обратить внимание на возраст Эрики Джонг. Она из того поколения американской молодёжи, на которое пришёлся расцвет движения хиппи. То есть когда пропагандировалось свободное отношение к жизни, выраженное через отказ от навязываемых государством запретов. Это, в свою очередь, породило изменение в самосознании многих молодых людей, начавших воспринимать жизнь в извращённом её представлении. А раз при взрослении психика надломилась — исправить этого уже не сможешь. Но как-то ведь следовало продолжать жить. И как бы всё не складывалось в дальнейшем, образ мыслей показывал человеческое естество в натуральном виде. Поэтому, чтобы понять и принять произведение за авторством Эрики Джонг, нужно самому иметь аналогичные пристрастия, либо проявлять интерес в силу профессиональной деятельности.