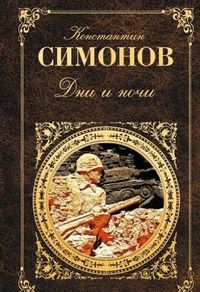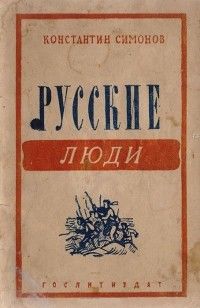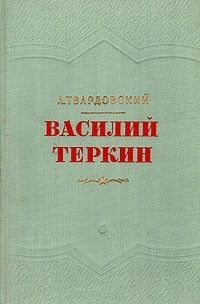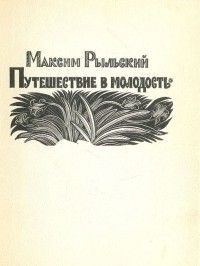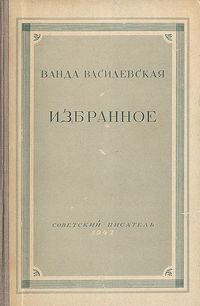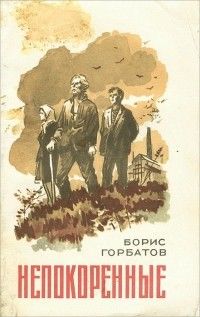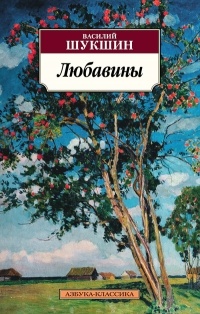Михаил Лозинский — перевод «Божественной комедии» Данте Алигьери (1936-42)
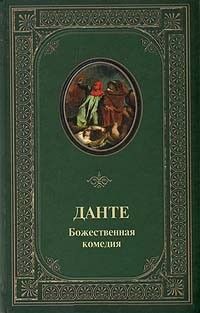
Поэзия сложна для восприятья, как не пытайся осмыслять, как не раскрывай свои объятья, дабы поэзию лучше научиться понимать. Это явно в случае ином, когда в переводе поэзия даётся, каких только вариантов не найдём, каждый раз похожих строк там не найдётся. Вот был Лозинский — академизма поклонник, Данте поэму он взялся переводить. Сразу было видно: Михаил сторонник, что мосты культур желал наводить. Проблема в другом — в восприятии стиха. У читателя ведь мнение должно иметься. Действительно, строка у Лозинского легка, вполне может свободно пропеться. Перевод отличен, если при себе оставить возражение, но ужасен, коли правдиво сказать. Никак не идёт на ум переведённое стихотворение, за следующей строкой можно смысл поэмы вообще потерять. Такова правда, её не избежать никак, Михаил может и сумел поэтично произведение связать, да какой же это подлинный в сущности мрак, в переводе Лозинского поэму Данте читать.
Что поймёт читатель? Может то и поймёт. Данте для него — искатель… искатель длиннот. Взяв начало ни с чего, странствуя по окрестностям в бреду, становился он очевидцем всего, причём самому себе на беду. Вокруг да около бродил, едва не опередив Сааведру, излагая мысли, пыл истощил, в чём-то уподобившись Федру. По пути измышлений всё ниже он шёл, совсем до низменностей пав, вполне уместным отчего-то Данте тогда счёл, сказку про бытие на собственный лад рассказав. До мракобесия опустился Италии сын, Флоренции опальный радетель, не стал жалеть чужих он спин, наваждений свыше ставший свидетель. Видел картины, с глаз их долой, мифология греков пред ним оживала, впору распрощаться за такую крамолу с судьбой, но вот ясна дорога дальнейшая стала.
Чистилище! Ад! Владения Астарота! Кто же будет рад, прибыв в преддверие сатанинского грота? Новый взгляд на былое, тут вам не Европы тёмные века, взращивать естество своё положено злое, будто это было всегда. И Данте воспрял, нащупав нить торжества, то он и искал, злобы своего естества. Накипело больное, душа исходила на пар, измыслил поэт в сердце такое, отчего мог вспыхнуть пожар. При жизни снизошёл Данте до чистилища, не ведая, что к нему идёт, он сам — и только он — судья того судилища, управу на всякого теперь он найдёт. То кажется ясным, чему Лозинский мешал, стал Данте словно безучастным, помыслов его никто, увы, не понимал.
Данте в аду непонятен. Неясен Данте в раю. Наоборот, Данте злосчастен, потерявший любимую свою. Он бредёт, бредом полнится мыслей поток, думает — найдёт, но остаётся к себе в прежней мере жесток. Он погрузился в из фантазий водоём, совершенно оставшись без сил, теперь в разных переводах о том мы прочтём, выбирая, какой перевод нам покажется более мил. Но комедия Данте — есть драма жизни его, не всеми осознаваемая, если вообще понять способен окажется кто, пусть и поэма его всеми узнаваемая. Лозинский лепту от себя внёс, нисколько не помогая разобраться, потому не найдёт читатель и каплю для слёз, не зная, отчего горестям дантевым ему ужасаться. И всё же в комедии должно быть многое понятно, если взять перевод другой, где суть поэмы излагается внятно, написано с любовью — ведь есть перевод и такой.
Не будем грозно судить, не нам на то право иметь, проще огрехи чужие забыть, чем напрасной злобой кипеть. Имеет человек право, если берётся за дело с душой, не важно — лучше ли после того стало, был и будет познать то способ другой.
Автор: Константин Трунин