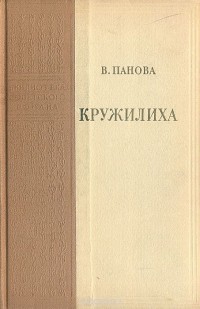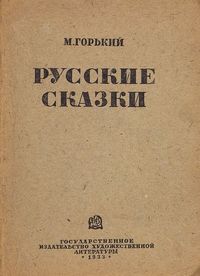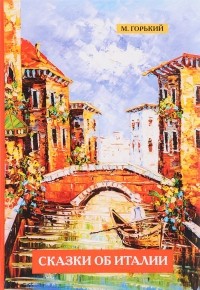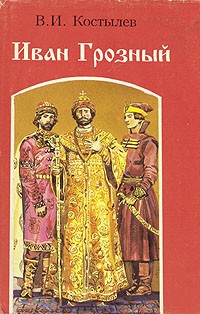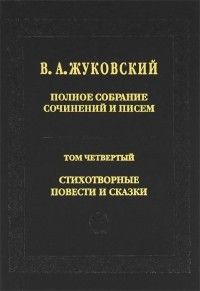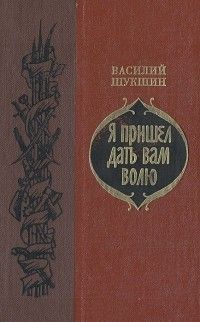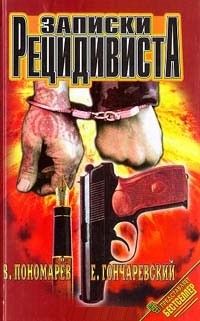Иван Тургенев «Неосторожность» (1843)
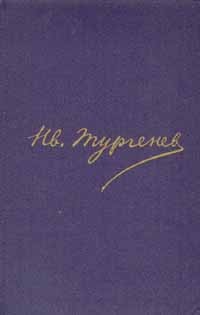
Поэт, критик и сразу драматург — Тургенев брался пробовать силы в разных жанрах. И он не мог иначе поступать, получая хвалебные отзывы от Белинского. Такое решение примет всякий автор, когда до него нисходят в обходительных речах. Не получая прямого укора, ласково встречающий замечания, Иван продолжал стараться, находя точку для опоры. И без того понятно, что неосторожная критика губит начинания. И не быть Тургеневу писателем, не получай он одобрительных слов. Когда Белинский говорил, насколько хорошо написано, а чтобы ещё лучше воспринималось — следует кое-что подправить, то Иван ни в чём не перечил. Его уверенность кажется понятной — пусть другие находят попытки начинающего литератора невразумительными, зато Белинский отмечает в им написанном некоторую прелесть. Коли так, следует продолжать совершенствовать слог. Становилось маловажным, насколько Тургенева желали принижать. Впрочем, опыты Ивана могли и не стать достоянием общественности. Например, пьеса «Неосторожность», написанная по следам совсем недавно популярной испанской темы, — в 1839 году по либретто «Тоска по родине» (за авторством Загоскина) имела место быть с шумным успехом постановка о быте русского дворянина под небом Испании.
Кто пожелает понять содержание, окажется разочарован. Но раз решено — не ругать, тогда нужно обойти острые углы стороной. Любая попытка в писательском ремесле — очень трудный шаг, который на самом деле тяжело даётся человеку, толком ещё не представляющему, каким образом нужно строить повествование. А драматургия — особого значения литература, требующая умения, к чему не каждый драматург способен проявить старание. Тургенев и не пытался прослыть за талантливого сочинителя пьес — для чего изначально использовал самую разумную отговорку, будто бы писал не для театральной постановки.
Разве и правда можно писать драматургию так, не желая её видеть поставленной на сцене? Сомнительно, дабы это практиковалось уже во времена Тургенева, тогда как в последующие века такому явлению место находилось всё чаще. Причина этому должна быть очевидной. С одной стороны, зритель не желал лицезреть классическое трактование классического же произведения. С другой — сам писатель не соглашался ограничиваться рамками повествования, имея намерение раскрыть содержание не в части диалоговой составляющей, а довести до читателя определённую информацию, убрав из текста постороннее описание, оставив сугубо важные для развития действия слова персонажей.
Под пьесой «Неосторожность» Тургенев своей фамилии не поставил, он указал, что автором выступил поэт, составивший текст «Параши». Примечание о месте действия Иван позже убрал. Но являлось ли для кого секретом — действие происходит в Испании, при этом век роли не играл. Русскоязычному читателю вообще было безразлично, насколько представленная на страницах национальная составляющая имеет сходство с действительностью — Испания оставалась для читателя чем-то далёким. Если кто и мог внести ясность, разве только Фаддей Булгарин, имевший прямое отношение, поскольку в составе армии Наполеона ходил походом на Пиренейский полуостров. Но интерес Булгарина к Тургеневу пока не мог проявиться.
Поэтому остаётся вновь ссылаться на Белинского, сумевшего разглядеть в Иване задатки будущего классика русской литературы. Да насколько он действительно умел это делать? Отделять малосущественное от существенного у него получалось. Ему удалось сформировать определённые требования, вследствие чего ряд писателей оказался практически лишённым востребованности. Так Белинский вывел в ноль мастерство Сумарокова, знатока драматургии. Не станем скрывать от читателя — в ноль он вывел и Тургенева в качестве драматурга.
Упомянем судьбу «Неосторожности» в качестве пьесы. При жизни Ивана на сцене она не ставилась.
Автор: Константин Трунин