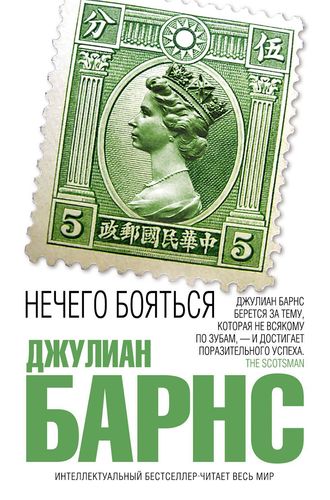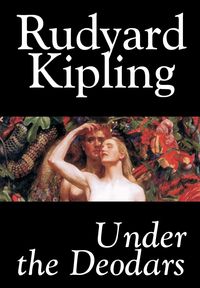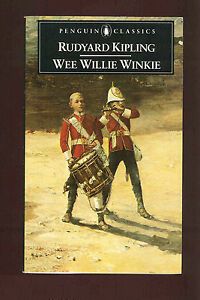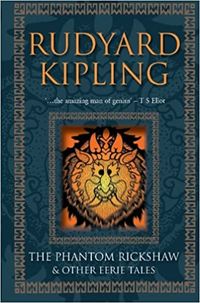Джеймс Гордон Фаррелл «Осада Кришнапура» (1973)

Описать восстание сипаев? Не составит затруднений! Видимо так подумал Джеймс Гордон Фаррелл, когда взялся отразить события былых дней, измыслив для того осаду им выдуманного города. О чём именно следует рассказать? Разумеется, про обижаемых индийцами британцев. А почему так случилось? Говорят, из-за патронов, пропитанных свиным и говяжьим жиром, оболочку которых требовалось разрывать зубами, после чего извлекать заложенный в них порох. Ни слова про присущий британцам джингоизм, ни про сложившуюся в Индии обстановку. Всего лишь из-за особенностей технологии производства патронов. То есть британцы не учли религиозного аспекта. Быть может это стало последней каплей терпения. Что же тогда прежде беспокоило индийцев? Об этом читатель так и не узнает, к тому же посетовав на отсутствие среди действующих лиц хоть кого-нибудь со стороны сипаев. Потому приходится внимать бедственному положению британцев, поскольку на страницах произведения страдают только они.
Ещё читатель волен отметить взаимосвязь происходящих на планете процессов. За несколько лет до восстания сипаев закончилась Крымская война. А ещё незадолго до того в ряде европейских государств бушевала холера. Были и другие обстоятельства, которые очень сложно все рассматривать одновременно. Для Фаррелла важной показалась именно эпидемия холеры. Он решил сообщить читателю историю, когда в лондонском Сохо случилось разгадать секрет заболевания. То есть об этом было известно уже на протяжении более сотни лет, но Фаррелл решил в подробностях изложить те обстоятельства и на страницах «Осады Кришнапура», сведя повествование к продолжающейся борьбе взглядов. Немудрено, в самой Индии возбудителя заболевания обнаружат лишь спустя тридцать лет после восстания сипаев. Другой аспект — мытьё рук. Фаррелл словно взялся донести до читателя даже такую сторону борьбы человеческих измышлений. К описываемым событиям мало кто считал нужным мыть руки, не видя в том какой-либо необходимости. Читатель не должен удивляться, на момент действия не все улавливали взаимосвязь между инфекционными заболеваниями и грязными руками. Впрочем, не знали они и про инфекционные заболевания, скорее склонные поверить в теорию миазмов.
Что до непосредственного восстания сипаев, читатель не может знать, насколько Фаррелл правдив. Джеймс должен был быть воспитан на рассказах отца об Индии, поскольку тот служил бухгалтером в Бенгалии. Вероятно, некоторые свидетельства о тех днях он мог ему изложить со слов непосредственных очевидцев. Но насколько всё это требовалось для написания произведения? В доступности имелась литература как о самом восстании, так непосредственно об осаде городов Канпур и Лакхнау, которые пришлось уступить. Можно было обратиться к художественным произведениям. Тот же Киплинг писал, выведя причину вспыхнувшего конфликта более из-за тяжёлого налогового бремени. Но Фаррелл ни на шаг не отступал от плана описывать бедствие британцев, пострадавших от будто бы незначительной оплошности. Не придётся удивляться, если поныне разговор о восстании сипаев неизменно начинается с рассказа о пропитанных животным жиром патронах. Нужно смотреть глубже, чтобы увидеть за бедствием действующих лиц подлинную причину их страданий. Читатель то отметит непосредственно сам, увидев присущую им надменность.
Иногда кто-то высказывает недоумение, по какой причине «Осада Кришнапура», несмотря на приписываемую значимость данному произведению, остаётся чаще всего без внимания со стороны читателя. Объяснение стоит искать в неудобстве объяснения некогда происходивших событий. Показывать британцев такими, как это сделал Фаррелл, не является самым лучшим решением. Гораздо лучше закрыть глаза и поговорить о чём-нибудь другом, нежели вновь затрагивать тему джингоизма, ничуть не утратившего позиции в мировосприятии британцев и поныне.
Автор: Константин Трунин