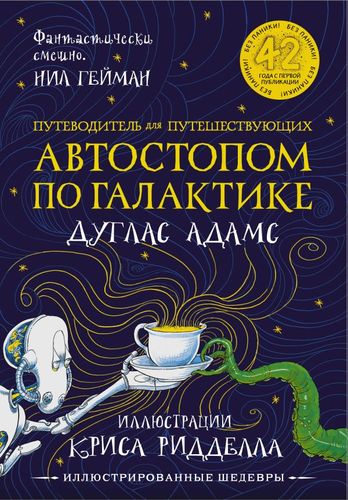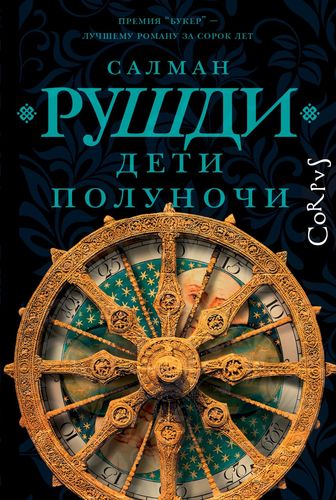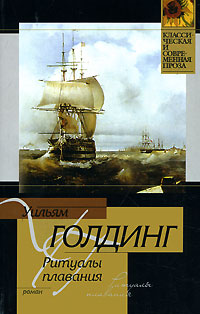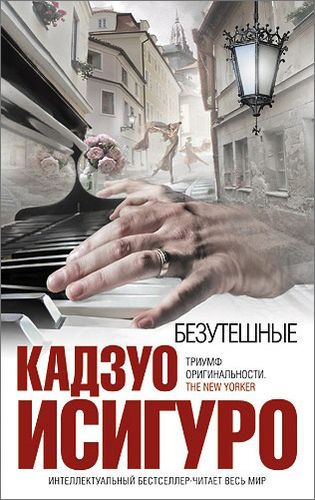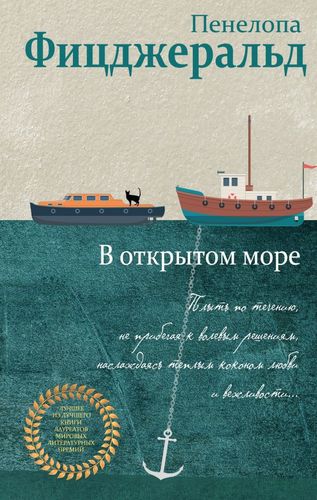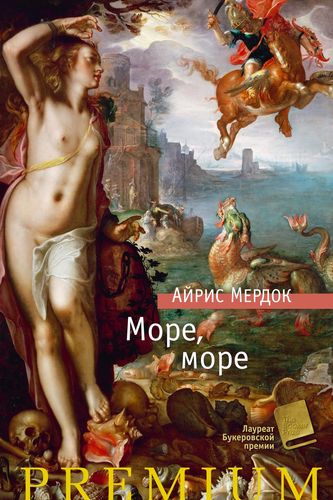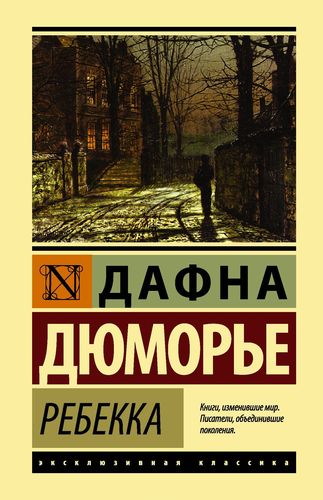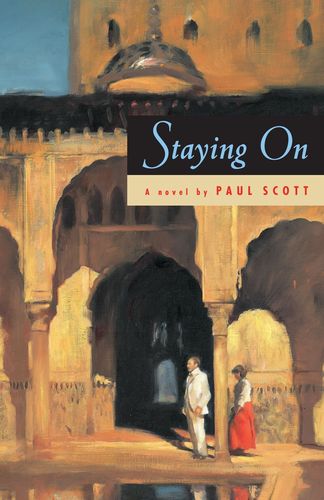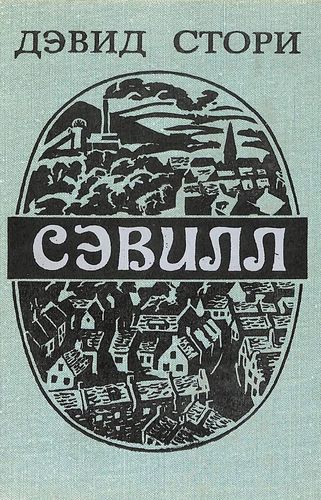Уильям Голдинг «Повелитель мух» (1954)
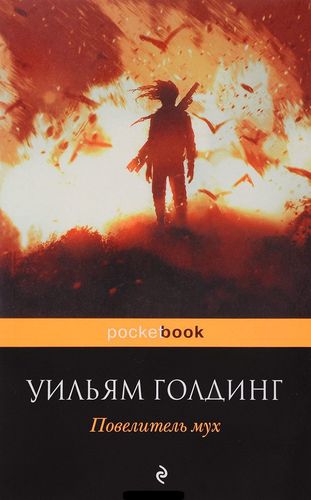
Как правило, никто и никогда не сможет узнать тех тайн, которые хранят участники выпавших на их долю испытаний, если им пришлось выживать в суровых условиях, когда они оказались отрезаны от цивилизации. Первое, о чём начинают думать: о каннибализме. Но кто в таком сознается? А если и подтвердят догадку — прочие её опровергнут. То есть правду не найти. Люди смогли выжить, на какие бы моральные страдания они не пошли. Другое дело, если об этом берутся рассказывать другие. Например, Уильям Голдинг решил, будто никто не может быть прав, кроме него. Ну какой Робинзон Крузо? Какие-такие эрудированные персонажи Жюля Верна? И дабы не возникло сомнений, он поместил в центр повествования детей, уж точно ни к чему в жизни пока ещё не способных. А так как сам Уильям вырос в британской среде, должный быть пропитанным жестокими нравами среди сородичей-мальчишек, он справедливо полагал, к чему приводит ситуация, когда английских детей оставляют представленными самим себе в закрытом пространстве. Потому не стоит задаваться лишними вопросами — на страницы перенесено отражение действительности.
Читателю представлена следующая ситуация. Мир охвачен войной. Терпит крушение самолёт, перевозивший детей. Выжить удаётся только лишь британским мальчишкам. Вскоре они понимают — находятся на необитаемом острове, выбраться с которого они самостоятельно не смогут. Возникнет две необходимости: добывать пропитание и разжигать костёр. Но кому предстоит становиться лидером? Тут уже вопрос авторской совести, из каких побуждений он призывал благочинных сынов Англии отказаться от национальных традиций. Может в момент описываемых событий Англии уже вовсе не существовало. Если рассуждать просто, среди мальчишек восторжествовала древняя традиция, племени нужны вождь и жрец. Собственно, часть детей останется с вождём, другая начнёт поддерживать жреца. Это образные выражения, поскольку Голдинг именно в таком виде не представлял ситуацию. Однако, читатель понимал, кто из действующих лиц склонялся к вере на высшие силы, способные принести спасение, а кто хотел добиваться права на осуществление своих потребностей с помощью физической силы.
Вместе с тем, на страницах читатель может найти многое, способное ему облегчить понимание мотивов и поступков людей с западным складом ума. Допустим, мальчишки хотели установить правила для поведения и взаимного общения. Почему они не исходили из общечеловеческих ценностей? То есть одни считали себя вправе поступать наперекор чужому мнению, даже взаимной выгоде, стремясь настоять на своём, думая разве только о собственном благополучии. Другие с ними не соглашались, пока не оказывались поставленными перед неизбежностью примириться. Продолжи Уильям развивать ситуацию дальше, мало кто бы остался в живых, учитывая склонность британцев чинить расправу со всяким для них неугодным. Может потому у книги по сути нет конца. Представленное разрешение ситуации — идиллия. Но читатель понимал — никто из мальчишек не расскажет о происходившем. Разве какой-нибудь писатель нафантазирует, отразив личное представление о вероятно имевшем место.
Согласно распространённого мнения, человек быстро одичает в дикой среде. В значительной массе так и произойдёт. Остаётся думать, Голдинг придерживался того же мнения. Зачем предполагать, будто существуют люди, приученные с детства справляться с трудностями, способные в самом глухом краю возвести для себя жилище. Но если они и сумеют наладить быт, добиться прогресса в короткой перспективе у них не получится, они всё равно будут исходить из надежды, будто однажды им удастся связаться с большим миром. Впрочем, читая «Повелителя мух», читатель справедливо полагал — мир полностью уничтожен, остались представленные вниманию дети. Поэтому попытки оказаться замеченными воспринимались за крик отчаявшихся. Но зачем об этом пытаться рассуждать, если сообщена одна из историй, вполне способная повториться.
Автор: Константин Трунин