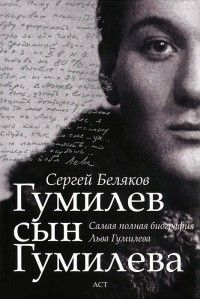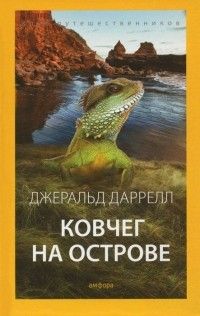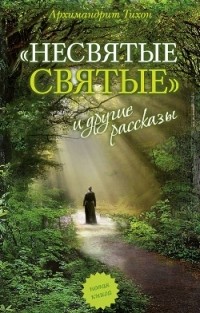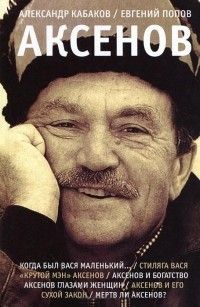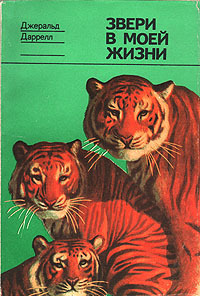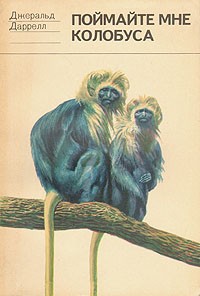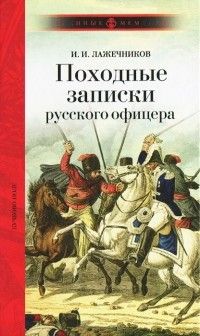Повести об Иоанне Новгородском (XIV век)
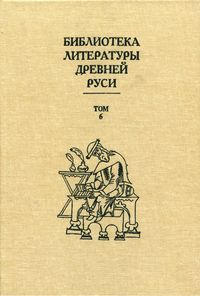
Об Иоанне Новгородском было сложено три повести, как летописные, так и сказочные. Первая из них — сказ о чуде иконы Богородицы, явленной в защиту града Новгорода от войска Руси против ополчившейся. Было то в 1169 году, когда город был вольным и население само князей на службу призывало. Коли так тогда обстояло, значит угодным Богу стало. И поскольку это так, не стоит дивиться случившемуся тогда под его стенами. Началось всё с отказа двинян дань платить, предпочтя перейти под покровительство Андрея Боголюбского. Случилось тогда сражение у Белоозера, в летописях названное «Сказанием о битве новгородцев с суздальцами». Полегло в том бою первых пятнадцать воинов, а вторых — восемьсот. Осерчал Андрей Боголюбский и послал на Новгород сына, с которым на град пошли семьдесят два князя, что равносильно почти всей Руси тогдашней.
Сила великая шла к стенам, одолеть её нельзя было. Осталось молиться Богородице о защите. Иоанн обратился к иконе с ликом матери божьей, поставив образ против суздальцев. Выступили слёзы на древе сухом, чему подивились жители Новгорода. Случилось диво более великое, никем нежданное. Осаждавшие русичи, стрел прежде не жалевшие, ослепли будто и биться с собою же начали. Увидели это новгородцы, пошли в бой на суздальцев и всех одолели. Таково свидетельство, если не сомневаться в нём.
«Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе» — второй сказ. Согласно преданию, умел Иоанн бесов обманывать. Мог их в склянку заключить, требуя выполнять желания. И захотелось однажды ему в Иерусалиме оказаться, в тот же день обратно вернувшись. Так и произошло, как то он задумывал. Поймал беса и оказался в граде христианских святынь, воздав Богу тем уважение. Короток сказ о путешествии, ибо не по земле шёл Иоанн, а по небу пространство вмиг преодолел. Диво-дивное, может быть и случившееся на самом деле, чему в подтверждение никакие слова не требуются.
Последним сказом является «Повесть о Благовещенской церкви». Не могли люди построить церковь, не зная, откуда деньги брать на её возведение. Осталось снова воззвать к Богородице, на её милость уповая. Стоит ли дивиться диву случившемуся? Явился конь, золотом усыпанный да с сумами доверху златом и серебром набитыми. Хватило тех денег на церковь, обустройство её и дальнейшую жизнь служителей её. Тому верил народ, ежели сказания о том составил, явно их не придумывая, словно всё было в действительности, тем подтверждая значение божьего промысла, укрепляя осознание необходимости почитания Руси защитников, без чьего участия не быть ничему не Руси, как и ей самой не бывать.
Именно такие сохранились предания об Иоанне Новгородском. Сколько в них правды и вымысла? Каждый сам решит, смотря насколько доверчив он. Если ему близок дух религии и ищет ответы на вопросы в промысле Создателя, то не случается чудес для него, ибо оное подтверждений не требует. А коли сомневается кто в возможности в сказаниях поведанного, того не убедить никакими способами. Остаётся положиться на провидение, каким бы оно не трактовалось по своему происхождению.
Другое удивительно, как отстаивая определённую позицию, человек прошлого забывал об одинаковости мыслей противостоящей стороны? Почему Богородица помогла новгородцам, но отказала в помощи суздальцам, ей же молившимся? Если конь с золотом пришёл к Иоанну Новгородскому, значит покинул другого Иоанна, может быть такой потери не заслужившего. Полёт же на бесе в Иерусалим никого обидеть не мог, кроме обманутого.
Автор: Константин Трунин