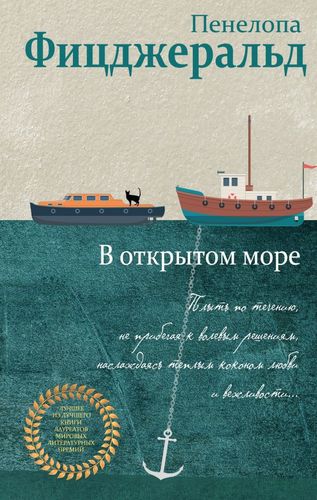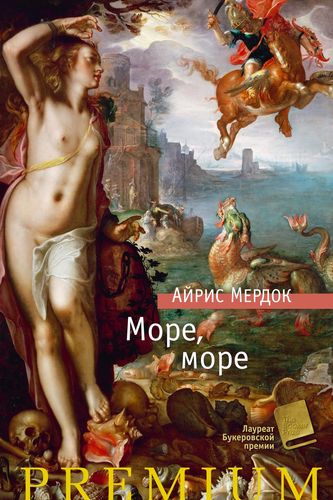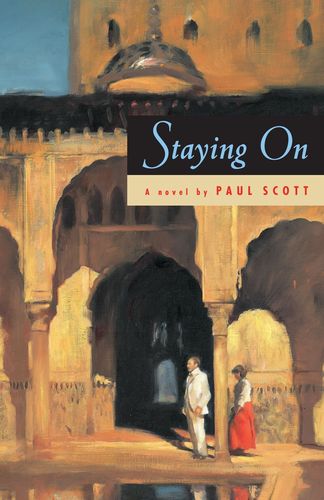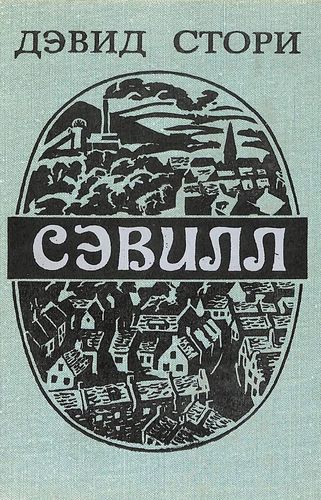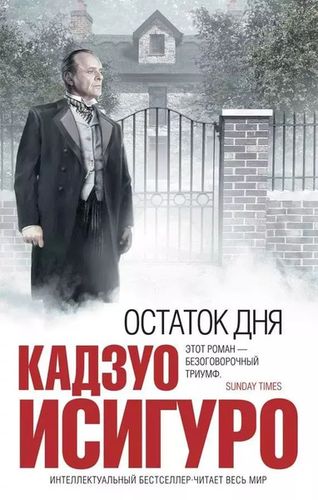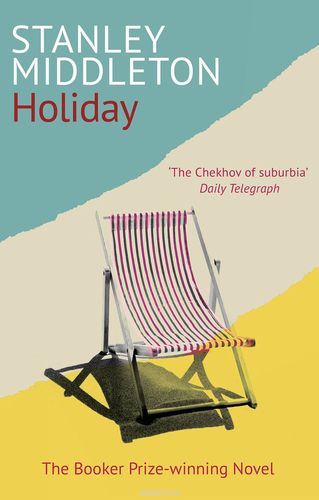Уильям Голдинг «Ритуалы плавания» (1980)
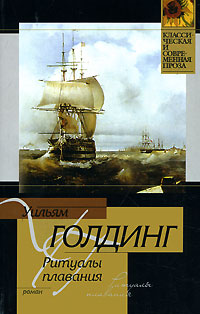
Голдинг мог задаться вопросом накануне написания очередной книги: «А каким образом можно получить Букеровскую премию?» Он посмотрел на лауреатов за прошлые годы, сделав очевидный вывод — надо писать о чём-то, что имеет связь с водой, или повествовать на тему Индии. А если измыслить судно, отправившееся в далёкое странствие? Пусть конечной целью станет земля антиподов, то есть Австралия. И пусть на судне разыграется драма, отдалённо напоминающая о канве самого первого романа Уильяма. Должно быть дельная получится книга! Осуществив задуманное, Голдинг стал ещё одним лауреатом Букеровской премии. Только вот читатель подумал — всё это сугубо по совокупности заслуг. Тремя годами позже к аналогичному выводу придёт нобелевский комитет, не ставивший за цель опираться на конкретные труды Уильяма.
Почему бы не назвать Голдинга похожим по творческому нарративу на Виктора Гюго? Мрачные фантазии побуждают к написанию тёмного фэнтези. Если Гюго так и остался приверженцем романтизма, Голдинга причисляли к суровым реалистам, мастером отображения британской действительности. Было бы это так, касательно Уильяма, каким образом читатель должен думать про Британию, якобы несущуюся по морям в неизвестном для неё направлении? Учитывая такую характерную особенность представленного вниманию судна, очень старого и наполненного отвратительными запахами. За таковое предлагается считать и государство, расположенное на острове Великобритания? Остаётся думать именно в таком направлении, поскольку наполнение оставило желать лучшего.
Повествование составлено из записей новоявленного пассажира морского судна, должного отбыть в колониальные владения, где ему обещана синекура. От него требуется единственное — принять неизбежность долгого нахождения в ограниченном пространстве. Но читатель знает, какого рода контингент отправлялся в земли, именованные Австралией. Не особо требовавшиеся английскому обществу члены. То есть судно наполнялось крайне опасными элементами, способными совершить любое противоправное деяние. И, опять же, как известно читателю, Голдинг уже прежде писал о сходных обстоятельствах. Будем считать, герои «Повелителя мух» повзрослели, перенеслись по временной шкале в прошлое, теперь с грузом совершённых в детстве грехов им суждено продолжать соседствовать друг с другом. Вполне очевидно, ничего хорошего из этого не получится.
Рассказчик — непосвящённый в морские дела человек. Как происходит плавание? Он не знает. Что от него требуется? Поймёт по мере продвижения по сюжету. Голдинг поступил крайне нечестно, используя приём читательского вхождения в новый текст, буквально всё разжёвывая, благодаря чему количество печатных символов возрастает без особых мысленных затрат. Дабы никто не сказал слова против, будто Уильям в чём-то заблуждается, касательного взятого им для рассмотрения исторического момента, вроде морской терминологии или чего-либо ещё, он в самом начале повествования дал предуведомление, мол, у него есть опыт хождения по морям, следовательно он лучше знает, нежели оппоненты, обязанные появиться для осуждения.
Всё-таки «Ритуалы плавания» себя не оправдывали. Внимание читателя приковано тремя фактами: известность автора, обладание нобелевской премией по литературе и, собственно, Бекеровская премия как раз за данное произведение. В любом прочем случае читатель скорее бы обратился к «Сообщению Артура Гордона Пима» за авторством Эдгара По, приняв за более блестяще выполненный образчик описания плавания в неизвестно куда. К окончанию чтения книги Уильяма Голдинга читатель так и не поймёт, какое смысловое наполнение закладывалось автором в содержание. О чём вообще рассуждать по прочтении? Про жестокость нравов прошлого времени? Про продолжающее сохраняться среди людей невежество? Про пагубность любых затей, когда над людьми перестают действовать общечеловеческие установления? Определяться предстоит самостоятельно, раз уж появился интерес к чтению данного тёмного фэнтези.
Автор: Константин Трунин