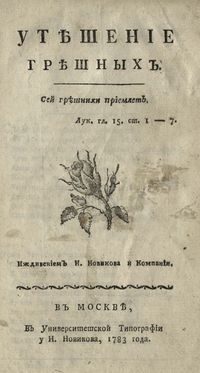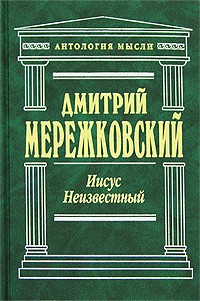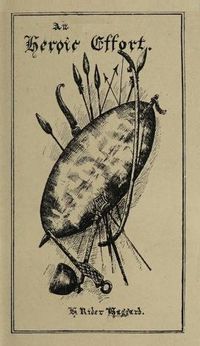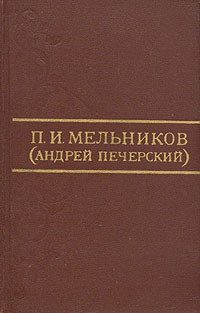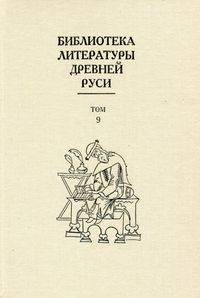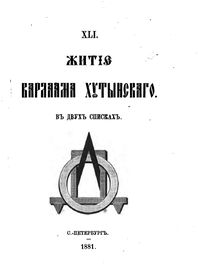Дмитрий Мережковский «Франциск Ассизский» (1891)
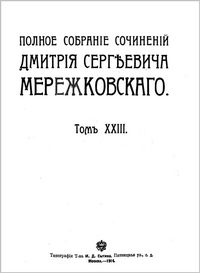
Кому-то желается подвигов, идёт он в бой, подняв забрало, и будет биться, острое вонзая жало. Пред ним люди падут, рухнут стены, уйдут под воду города, оставив полосы из пены. На то заточен гений человека: уничтожать. Ничего не поменяется: силой надо массы брать. Но есть люди, кому чужда сия юдоль, они находят средства, причиняя себе боль, про таких и поныне принято с трепетом говорить, ибо не все могут с тем же стремлением жить. Не всякий веригами отяготиться, не каждый будет пост строго держать, по крайней мере, во имя Бога никто не станет страданиям тело своё подвергать. Как говорить об этом? Мнений много, правды не найдёшь. Сочувствуя кому-то, истину всё равно не обретёшь. Так пусть же люди живут, лишь бы не мешали своим образом жизни другим, не рассказывали нам, чего мы, по их мнению, сильно хотим. Если больно кому-то взирать на страдания, он на жертву пойти готов, не надо мешать — поступки не стоят произнесения слов. К пониманию этого путь далеко не близкий, послушаем, что говорил об этом Мережковский в поэме «Франциск Ассизский».
Очень ладно, прослезиться должен читатель, Дмитрий воспринимается как от поэзии старатель, он искал созвучие, красил строчки словами, талантом поражая временами. Так поэму сочинить, столь умело рассказать, ему оставалось долгой стези поэта пожелать. Коснулся разговор судьбы католика былых веков, основателя нищенствующих орденов, следовало показать его становление и важность свершённых дел, объяснить, как он внимания добиться сумел. И повёл Дмитрий разговор от начала начал, как любой прежде автор от монахов поступал, коснулся разговор родителя мужа святого, который возлагал на дитя надежды много, бывший вынужденным нрав ребёнка стерпеть, не будучи способным над ним волю иметь.
Так Франциск, сын купца, должный усвоить ремесло торговать, легко ступая по жизни, не зная чем время занять. Однажды узрел страдания Христа, и с той поры впал в печаль, сам теперь страдая, ему было Христа жаль. Как можно веселиться? Как можно беззаботно жить? Ведь люди страдают! Им не помочь, тогда хоть себя изменить. Отказаться нужно от стремления обладать вещами, перестанешь бояться потери. Так дошёл Франциск до самой главной в жизни идеи. Больше он ничем никому не обязан, лишь обещанием влачить бедность связан, пошёл по миру с протянутой рукой, уже не бродяга — для церкви подлинно святой.
И вот Франциск отправился в Крестовый поход, думая, к султану неверных подход он найдёт. Едва там мучеником Франциск не стал, когда к мусульманам в плен он попал. Жаркой проповедью думал обратить измаилитян в веру во Христа, пусть и звучат тавтологией эти слова. Всех желал Франциск от войны отвратить, точку зрения свою он хотел насадить. Потому ничего добиться не сумел, поскольку впервые в жизни чего-то от других захотел. Не должен был требовать от людей, к чему склонялся сам, каждому из нас должен быть свойственен личный обман. Пока боролся за себя, Франциск побеждал, а в борьбе за взгляды других он успеха не стяжал.
Есть мудростей ворох, которым впоследствии Франциск делился, но снова он в строках у Дмитрия забылся. Блажен был святой, боровшийся с желаниями плоти, мысли воли не давая, тогда как прочее, в рассказе про него, — история иная. Не показал ли тем Мережковский читателю урок, дабы никто к чужой воле не оставался строг? Всему есть место среди людей, всё может существовать, но до той поры, пока не пожелает влиятельным стать.
Автор: Константин Трунин