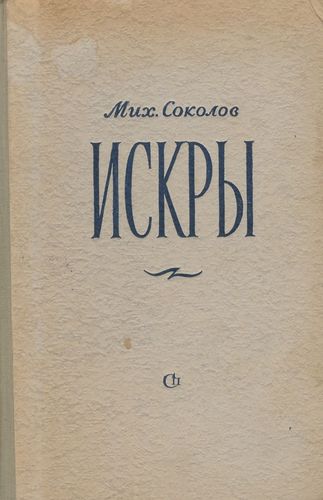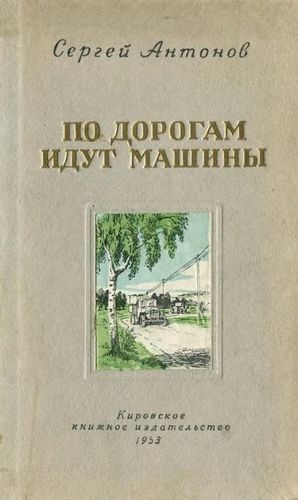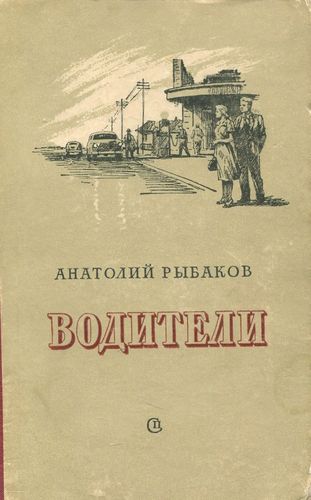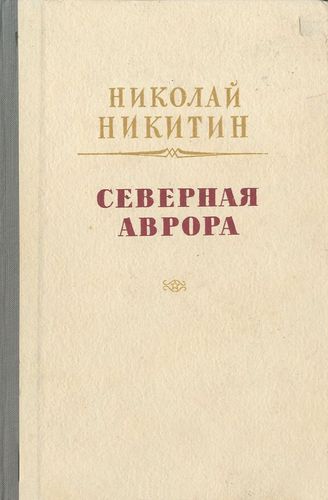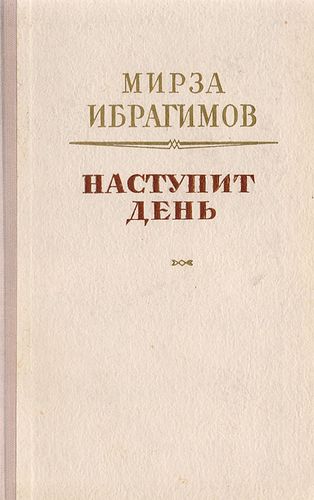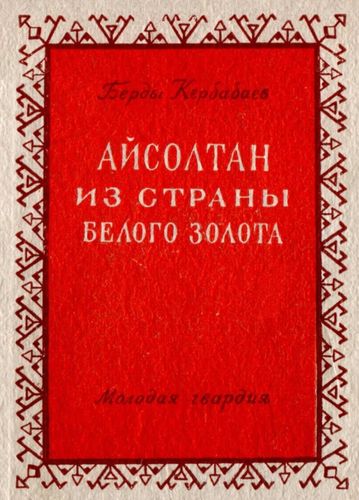Николай Бирюков «Чайка» (1942-44)
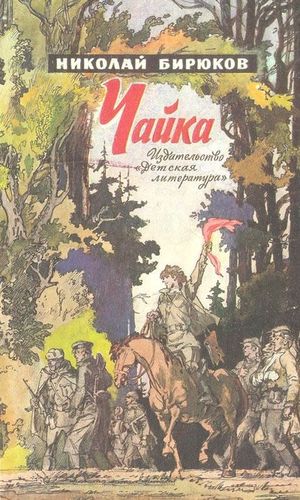
Любой рассказ о «Чайке» Николая Бирюкова обязательно сопровождает справка о том, что данное произведение написано по мотивам жизни и подвига Лизы Чайкиной. Очень часто это вводит читателя в заблуждение. Не сразу он сможет понять, перед ним история о выдуманной девушке, чья жизнь имеет несколько схожих моментов, тогда как во всём остальном — сходств нет вовсе. Если бы Бирюков придумал для главной героини совсем другое прозвище, но таким же образом подвёл её к трагической гибели, тогда отсылок к Лизе Чайкиной быть не могло. Но зачем Николаю рассказывать об ещё одном подвиге в военные годы, которых на первых этапах войны имелось в достаточном количестве? Он знал про гибель Лизы Чайкиной от рук немецких карателей, всё остальное сложилось само по себе. И уже читателю нужно предполагать, почему книга, изданная в 1945 году, получила Сталинскую премию лишь спустя шесть лет.
Читатель задумается и о том, почему книга удостоилась лишь премии третьей степени. Причин тому множество. Однако, насколько оправдано описывать придуманный подвиг, когда перед глазами имелся настоящий пример героизма? Вместо Лизы Чайкиной перед читателем Катя Волгина. А раз Волгина, ей придумают прозвище Чайка. Почему? А разве нельзя связать чайку с Волгой? И ведь гораздо проще рассказывать о вымышленном человеке, нежели восстанавливать информацию по крупицам. Только вот позже Бирюков начнёт иным образом подходить к написанию произведений, именно проявляя усердие в собирании фактов и обстоятельств. Надо полагать, Николай получил немало гневных посланий от современных ему читателей, с тем же огорчением узнававших, насколько они глупо выглядели перед товарищами, начав приписывать Лизе Чайкиной описанные в «Чайке» моменты.
О чём же Николай рассказывал? Про молодую активистку, жившую согласно заветам Ленина. Она гордилась за достижения на государственном уровне, и её не покидала надежда на правильный путь партийной линии. Четверть повествования проходит ещё до начала войны. Только вот читатель знает должное неизменно произойти в конце, тогда как прочее — вынужденное знакомство с авторским вымыслом. Жизнь в мирное время — полотно в духе соцреализма, ничего не сообщавшее нового, не позволявшее прикоснуться к удивительным открытиям советской науки. Может описание начавшейся войны чем-то вдохновит читателя? Если исходить из высокой мотивации на чтение. И, опять же, до того момента, когда станет ясно — Катя Волгина не является Лизой Чайкиной.
Может Бирюков подробно изложил обстоятельства подвига главной героини произведения, ознакомившись с которыми, читатель хотя бы в малой мере поймёт важное значение книги? Николай разве только сгладил впечатление от коллаборационизма, показав добровольное согласие с необходимостью трудиться на врага, таким образом помогая своим. Кто не соглашался быть податливее, считался немцами за подлежащих уничтожению. Оттого главную героиню ждала смерть в конце повествования, касательно чего Бирюкову полагалось отразить действительные события. Получилось ли у него? Остаётся только предполагать, скорее склоняясь к отрицательному ответу.
Николай Бирюков стал заложником образа. Хотел ли он отразить жизнь именно Лизы Чайкиной? Или ему настоятельно посоветовали провести параллели между трагически погибшей партизанкой и главной героиней произведения? Это перестало иметь значение. Главное, чтобы читатель понимал отличие «Чайки» от некогда происходившего, считая книгу за самостоятельное осмысление способности людей совершать подвиги при тяжёлых жизненных ситуациях. Может в таком случае получится смотреть на произведение чистым взглядом, понимая художественность его наполнения. Или не получится, так как название книги само по себе наталкивает на ошибочный ход мыслей.
Автор: Константин Трунин