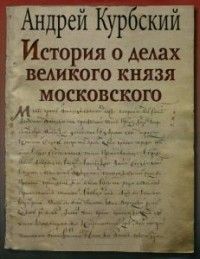Эмиль Золя «Альфонс Доде» (1876-79)

Альфонс Доде был натуралистом, но не до конца. Допуская авторское присутствие в тексте, он тем оставался в стане романтизма. Поэтому циклу статей о его творчестве Золя нашёл место в сборнике «Романисты-натуралисты».
Доде родом из Прованса, он почти гасконец и почти итальянец, но сомнительно, чтобы француз. Являясь натурой впечатлительной, Доде начинал со стихотворений. Будучи обаятельным, Альфонс не затерялся в Париже, усиливая присутствие в прозе за счёт еженедельных публикаций в периодике. Он писал «Письма с мельницы», после «Рассказы по понедельникам», представляя их в виде прованских сказок. Вскоре налёт легенд ушёл из его рассказов, уступив место злободневному.
Судить о творчестве Альфонса Доде Эмиль Золя предлагает по романам «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона» и «Набоб». Какой бы не был их сюжет, герои Доде оставались прежними. Выработав определённое понимание о повествовании, Альфонс старался его придерживаться, постепенно развивая. Читательская публика снисходительно встречала каждое новое произведение, скорее его осмеивая, нежели принимая всерьёз. Потому, когда Доде решил говорить о действительном, происходящим в обыденности, читатель не согласился того принять, восприняв в виде насмешки над современностью.
Золя и Доде дали читателю представление, как следует изучать нравы человека. Это допустимо делать с помощью художественной литературы. На данную тему Золя ещё подумает в «Экспериментальном романе», исходя в тех суждениях от реакции читателя на творчество Доде. Получается, описывая определённое и получая некую реакцию, писатель приходит к соответствующему выводу, имея для того подтверждающие свидетельства.
Несмотря на роль Альфонса в становлении взглядов Золя, далее представления о личности Доде и пересказа его произведений Эмиль распространяться не стал. Не имея возможности высказать возражения, ибо с ним дружил, Золя прославлял Доде, давая положительные характеристики всему им делаемому. Пусть не натуралист в мыслях, Альфонс оным всё-таки представляется благодаря стараниям Эмиля.
Драматургом у Доде стать не пучилось. Зритель не воспринимал серьёзно его творчество. Было в том обидное для Альфонса, должным образом им принятое. Куда же ему предстояло развиваться? Золя мог предполагать сторону реализма, приятно для него раскрывшуюся в “Набобе”. О дальнейших свершениях Доде в восприятии их Золя неизвестно, в силу очевидных причин, Доде продолжил творить дальше, а Золя предпочёл временно прекратить публицистическую деятельность.
Подводить итог творческих изысканий касательно Альфонса Доде рано. Эмиль Золя умел заинтересовать, практически приглашая всех знакомиться с произведениями близких ему по духу авторов. Конечно, он пересказывал их сюжеты (данная фраза должна набить оскомину читателю, но что поделаешь, если иначе Золя не умел писать критические заметки). Поэтому ознакомившихся со статьями Эмиля вполне можно причислять себя к знающим произведения тех авторов, о которых он так усердно рассказывал. Разумеется, этого всё равно недостаточно. Читатель просто обязан познакомиться с творчеством самого Золя и всех прочих упомянутых им писателей, как бы к ним он не относился. Ведь надо смотреть относительно прошедшего времени, сравнивая с последующими работами авторов уже века XX и, конечно, XXI века.
Дополнительно стоит коротко обговорить прочих писателей, упомянутых Эмилем в статье «Современные романисты», также входящей в сборник «Романисты-натуралисты». Вернее, о них не будет речи, поскольку та статья не была переведена с французского, оставив иноязычного потомка без знания, на кого следует обращать внимание, если есть желание лучше понять франкоязычных писателей конца XIX века. У кого есть о том сведения, тот может ими поделиться на просторах сети, чему свидетелем возможно станет и автор этих строк.
Автор: Константин Трунин