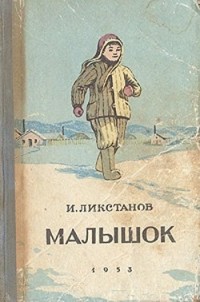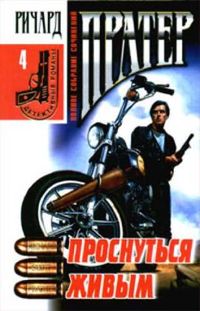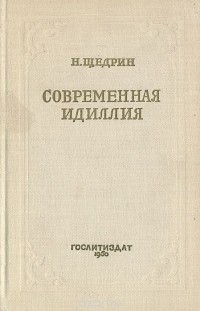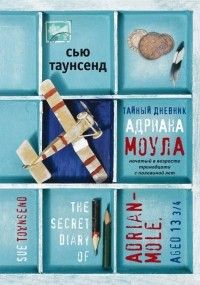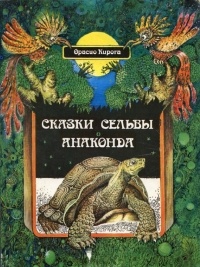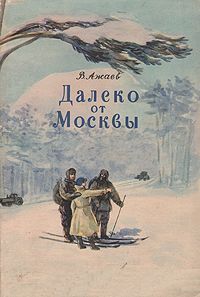Леопольдо Алас «Прощай, Кордера!», «В поезде» (XIX век)
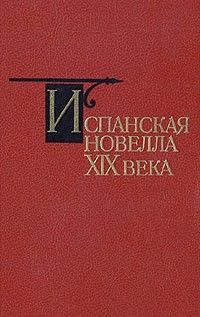
Читатель должен быть осведомлён, насколько каждый народ гордится своими писателями, наивно полагая, будто именно им следует отдавать пальму первенства, поскольку подобных им в мировой литературе невозможно сыскать. Если читатель в этом продолжает хранить уверенность, стоит его разочаровать. Отнюдь, прекрасно творивших писателей не счесть, только обо всех знать невозможно. Хотя, вникая в сущность рассуждений, не так важно, какой национальности писатель, когда речь заходит про общечеловеческие ценности. И тут-то оказывается, что не может существовать такого понятия, как русская или испанская душа, как нет вообще никакого разделения, так как человек во всём полностью идентичен абсолютно всем людям, какого бы иного мнения на этот счёт не старайся придерживаться. Дабы обосновать данное утверждение, предлагается познакомиться с рассказами Леопольдо Аласа, творившего в последние десятилетия XIX века.
Вот рассказ «Прощай, Кордера!» — повествование про детей, ещё не понимающих, насколько мир к ним будет вскоре жесток. Их детские годы не проходили зря, они весело проводили время, но непременно всегда приглядывали за коровой. Эта корова, которую звали Кордерой (ягнёнком или агнцем), беспечно взирала на окружающее пространство, вовсе не способная понять, чего ожидать от будущего. Зато Леопольдо понимал, насколько должно быть тяжело содержать корову бедному крестьянину. Обязательно наступит момент, когда корову придётся продать. Как к этому отнесутся дети? Они будут опечалены. Они наконец-то понимали, насколько мало в жизни счастья, ежели не умеешь сохранить даже самой малой толики тебе близкого. Особенно зная, куда забирают корову — на завод по заготовке мяса. Но в чём тогда суть рассказа? Алас не приоткрыл завесу над тайной бытия, он безжалостно продолжил повествовать. Дети вырастут, юношу призовут в армию, он отправится на войну, отстаивать идеалы одной из частей испанского общества. И тут уже читатель должен осознать, насколько незначительно различие между коровой, увозимой на забой, и юношей, увозимым на поле боя. Читатель скажет, будто различие есть. Всё-таки юноша знал, ради какой цели его заставляют воевать. Пусть он знал, мог ли он чувствовать нечто другое, нежели так горячо любимая им в детстве Кордера? И он стался агнцем, приносимым в жертву ради целей, которые не имел склонности разделять.
Другой рассказ «В поезде» — повествование про испанского чиновника. Его принадлежность к Испании — пустая формальность. Показываемый читателю чиновник — раздувшаяся от самомнения личность. Такому гражданину давно сталось неведомым, ради какой цели он призван вершить политику в государстве. В момент рассказа он вынужден ехать на поезде, причём не один, а с попутчиками. Как не желал он это оспорить, его вынудили согласиться с присутствием военного и дамы в чёрном. Не убирая выражения недовольства с лица, чиновник старательно терпел, пока не разговорился с военным, обсуждая положение дел на военном поприще. Конечно, чиновник сам не воюет, и никогда таким делом заниматься не будет, он думает о другом — как сытно поесть, где с размахом отдохнуть. Только политику необходимо разделять чувства населения, вследствие чего он начнёт ратовать за достижение успехов на войне, о необходимости отдавать почести павшим бойцам, героически принявшим смерть. К сожалению, чиновник не помнит ни одной фамилии из тех людей, во славу которых собрался ставить монумент. Что до дамы в чёрном, её он презирал всю поездку, пока военный не покинул поезд. Так кем была та дама? Окажется, вдовой героя, славно сражавшегося и героически погибшего, о ком говорит вся страна.
Таков вот Леопольдо Алас. Кто-то продолжит утверждать, будто проблемы испанского народа имеют отличия от проблем человечества в общем?
Автор: Константин Трунин