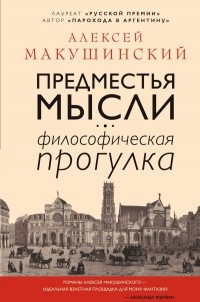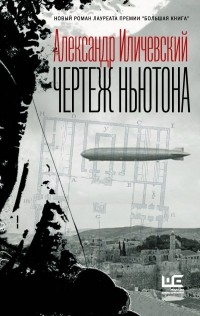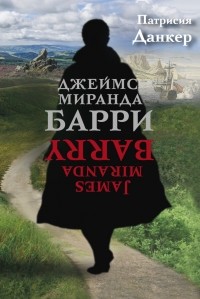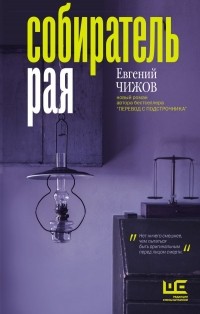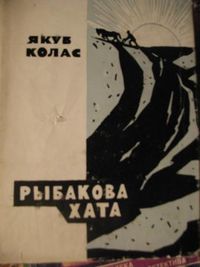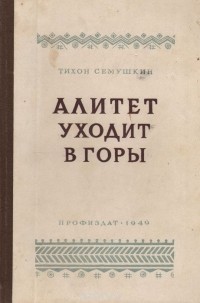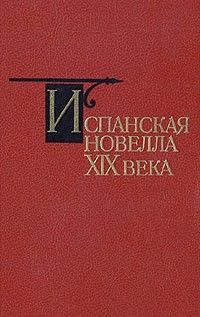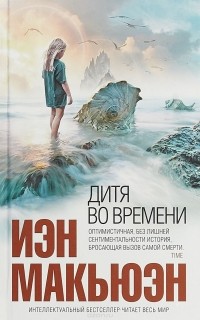Алла Горбунова «Конец света, моя любовь» (2020)
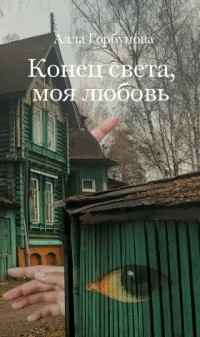
Для каждого жизнь складывается на собственный лад. Кому-то везёт расти в благоприятной среде, где чувствуется забота окружающего мира. Иные взращены в злачных условиях. Но вне зависимости от этого, люди сами решают, каким образом им продолжать существовать. Например, Алла Горбунова, если считать её книгу за сборник автобиографических историй, предпочла окунуться в омут мрачных страстей. Может повинна в том любовь к поэзии, когда некоторые поэты стремятся говорить о том, насколько больно жить. А так как Алла имела поэтическое дарование, она тем и жила. Это не говорит, будто её ровесники испытывали точно такие же переживания. Отнюдь, Горбунова предпочитала проводить время среди маргиналов, добровольно себя к ним причисляя. Теперь, спустя полжизни, она пожелала поделиться с читателем воспоминаниями. Если кому-то нравится литература в стиле альтернативы с упором на трэш, чтение придётся по душе. Ежели трепетная натура подобного не переносит, лучше и не браться.
Согласно названия книги, основанного на именовании заглавного повествования, Алла является фаталистом. С юных лет она верит в неизбежное наступление конца света, то есть ей мнится апокалипсис, причём должный свершиться на религиозной основе, когда праведники обретут право на вечный рай. Странно тут другое — в чём радость, если за дела рассказчице предстоит оказаться среди грешников? Читатель сам уверяется, продолжая знакомиться со сборником. В последующем ему становится известно следующее: рассказчица любила тусоваться, встречаться с парнями, о некоторых теперь вспоминая с трудом, её считали нимфоманкой, она перечила родителям, шла наперекор любому мнению взрослых, косила под гота, целовалась с подружкой, не брезговала запрещёнными веществами и успокоительными, с одиннадцатого класса всерьёз увлеклась стихами, была завсегдатаем посиделок в литературных объединениях, занималась лесбийской любовью с поэтессой (известной в узких кругах), позже дело дошло до свингер-вечеринок. На этом автобиографическая часть сборника заканчивается, уступая место художественному творчеству Аллы.
В свою очередь, художественное творчество мало уступало пережитому в юности. Во второй части повествовалось про братков и малолеток, когда первые разносили округу, желая найти девчонок для развлечений, а вторые не совсем против становиться объектом увеселения. Разговором о девчонках можно не ограничиваться, парни могли удовлетворять похоть посредством друг друга, согласно содержания. В третьей части повествование о путешествии в Прагу, как действующему лицу захотелось отведать местный деликатес — колено вепря. На деле блюдо оказалось отвратительным.
Последующие части сборника — трэш. То моряк, уходящий в плавание, решает зашить жене половые органы, зная про склонность к изменам, но та всё-таки проявляет неверность, однако в конце все остаются довольными текущим положением. То мёртвая женщина вопрошает органы, насколько хорошо они ей послужили. Чем дальше читатель продвигался по сборнику, тем повествование становилось забористее. Так и хочется спросить Аллу, насколько подобное вообще считается допустимым писать? Куда делось чувство стыда? Или понимание стыда никогда не было ведомо?
Одно успокаивает, Алла Горбунова обрела признание задолго до того, как сборник был написан. Теперь она имела полное право поделиться мнением о прошлом, не считая зазорным скрывать имевшее место быть.
С кем не бывает? — должен подумать читатель. Со всяким бывает, — ответит ему писатель. Отнюдь, не со всяким! — возмутится читатель. Вот и оставайся наедине со скукой! — утвердительно парирует писатель. И останется читатель без нахождения понимания чувств Аллы Горбуновой, тогда как ей нечего было от него скрывать. Сошлёмся на рассказ Льва Толстого: спасибо, что правду сказал.
Автор: Константин Трунин