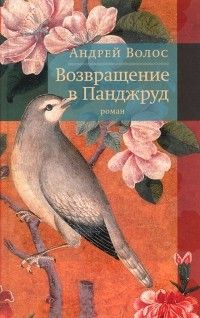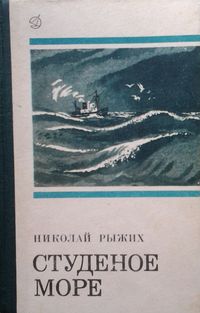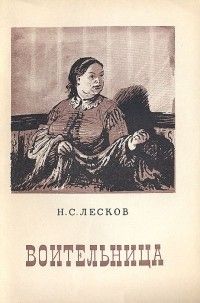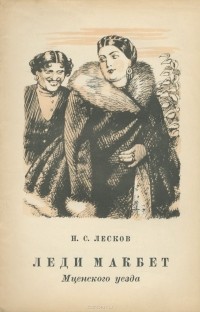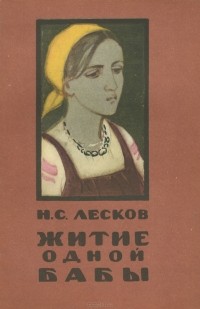Готфрид Лейбниц «Новые опыты о человеческом разумении. Книга II: Об идеях» (1704)
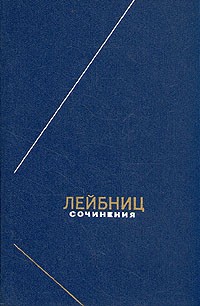
Акт отрицания — это нечто положительное. Таков девиз всей философии Готфрида Лейбница. Его «Новые опыты» представляют из себя набор мелочи, изысканной благодаря шпаргалке, словно специально составленной Джоном Локком. Если Лейбниц ранее и имел определённые мысли, найти которым применения не имел возможности, то теперь он высказал их в полной мере. Не все они имеют важное значение, малое их количество причастно к пониманию человеческого разумения, но все они есть в «Новых опытах».
Мыслит ли душа? И мыслит ли она, когда человек спит? Чистая доска — это состояние души при её рождении? Или душа включает в себя предустановки, тогда как тело их лишено? А может быть наоборот — тело имеет предустановки, а душа истинная tabula rasa? Ответ на сии вопросы значения не имеет. Он ничего не сообщит, поскольку само существование души сомнительно. Если учесть, что душа пребывает в теле, значит она движется относительно его, как движутся мысли относительно мыслительного процесса. Получается, когда тело испытывает голод, душа может о том не знать. Значит ли это, что это о чём-то говорит? Лейбниц задавался поисками неизвестного, чем он чаще прочего предпочитал заниматься, имея изначально недоказуемый постулат в виде Божественного промысла.
Ежели мыслит душа, значит нужно думать дальше только в этом направлении. Душа порождает таким образом идеи. Сами идеи всегда выглядят простыми, ибо изначально состоят из простых составляющих. Однако, учитывая восприятие человека с помощью различных органов чувств, простое принимает вид сложного: понимаемое глазу — неподвластно уху, осязаемое рукой — никогда не станет ясным носу. Поэтому в комплексе любая идея перестаёт быть простой.
Лейбниц загадывает ситуацию — если слепоглухонемому вернуть чувства, сможет ли он узнать без подсказок то, что до того было подвластно его пониманию с помощью одного осязания? При этом он не должен касаться исследуемого объекта. Отличит он тогда куб от шара? Простое для такого человека примет вид сложного. Он не сможет опираться на прежнее восприятие.
В действительности не существует простого. Даже мельчайшие элементы бытия — сложны для понимания. Возможно, человек никогда не сможет понять основы собственного существования. Ему доступны чувства для осознания этого, тогда как во всём остальном Универсум содержит бесконечное множество вариантов для его понимания. Лейбниц это обстоятельство не рассматривает, он старается добиться в измышлениях конечного результата, будто ему одному подвластно дойти с помощью раздумий до осознания истинности. Можно ли понять простое с помощью дум о простом? Не нужно ли для понимания простого задействовать сложные процессы?
Человек не располагает достаточным количеством чувств. Если кто думает, что для выводов достаточно минимальной информации, он окажется частично прав. Как доходили до верных выводов философы древности, используя метод соотношения имевшихся у них в наличии аналогичных примеров, так учёные мужи последующих веков старались прибегать точно к такому же способу. Когда-нибудь будет исчерпан лимит для подобного рода идей, потребуется разработка способности чувствовать Универсум иначе. Тогда понадобятся лейбницы новой эры открытий. Поэтому можно смело утверждать, Готфрид Лейбниц смел прилагать усилия для поиска ответов на вопросы без ответов, чем опередил своё время, но не сумел принести человечеству пользу.
Кроме прочего, Лейбниц настаивал на введении подобия золотых мер, понятных каждому человеку, числам он желал дать определённые названия, отказавшись от использования степеней. Ещё раз Готфрид упомянул бесконечность, возможную лишь при применении её к Совершеннейшему Существу. Он затронул понимание длительности, протяжённости, свободы, относительности, тождества. Пытался размышлять над прочими идеями: ясными, смутными, отчётливыми, неотчётливыми, реальными, фантастическими, адекватными, неадекватными, истинными и ложными. Обо всём, чего коснулся Джон Локк, говорил и Лейбниц.
Автор: Константин Трунин