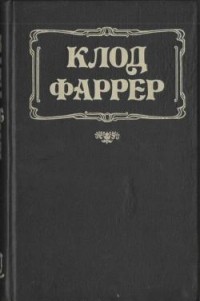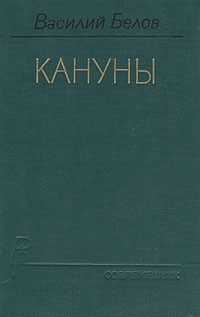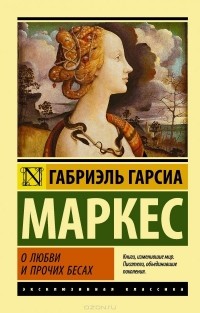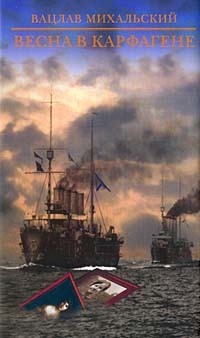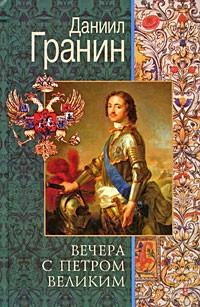Пётр Бородкин «Тайны Змеиной горы» (1965)
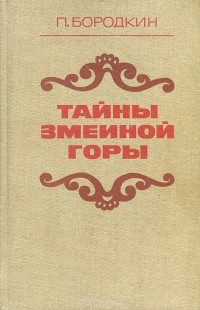
У Алтая особая история. Был он под царским надзором, ибо драгоценные металлы залегали в его землях. Но ещё до того владел сим краем Акинфий Демидов, выжимавший соки из всего, к чему бы не прикасался. И так-то оно так — подумает читатель — да при царской власти и при Демидова владении жил местный люд под одинаковым гнётом. Но как именно? Исторические выкладки о том не скажут ничего. А вот обращение к художественным образам поможет увидеть былое в почти истинном свете. Чему же станет свидетелем читатель? Узнает он историю рудознатца Фёдора Лелеснова, желавшего простого человеческого счастья — семьи, а вынужденного мириться с тяготами ниспосылаемых судьбой испытаний. Не ему одному было таково — каждый житель Алтая ощущал горечь существования, поскольку придя в сии места, покинуть их уже не мог никак иначе, кроме как приняв смерть в муках.
Нет, не всё плохо обстояло на Алтае. Человек, если он пожелает найти счастье, обретёт оное при любых обстоятельствах. Угнетают? Несправедливо с тобой поступают? Не позволяют жить по собственному желанию? Так будет при всяком государственном устройстве, только при различном к тебе отношении. На Алтае знаться с нуждами простого люда никто не желал. Впрочем, времена тогда были не из простых. В России сохранялось крепостное право. В случае заводов дело обстояло аналогично, несмотря на кажущуюся свободу. Просто не говорится открыто, отчего люди обязывались работать в шахтах, на заводах, либо как-то ещё. И не ставилось такой цели. Если о чём и стоит вести речь, то об угнетении людей.
Пётр Бородкин восстанавливал былое, исходя из чувств простого человека. Ведь кто такой Фёдор Лелеснов? Талантливый человек, способный найти руду там, где её другие просмотрят. Он полюбит девушку, а та ускользнёт от его взора. Найдёт ли он её? Или всё же уступит красавице Насте, положившей на него глаз? Драматичность повествования будет только нарастать. Пётр не даст читателю банального сюжета. Отнюдь, жизнь закипит на страницах прежде неведанными представлениями о прошлом. Оживут на страницах и прочие люди, имевшие свои мечты и желания, получая вместо них удары плетьми, присыпанные солью раны и вечное обитание в глубокой тайной штольне, где им трудиться без надежды заново вдохнуть свежий воздух с поверхности.
Порядки обязательно сменятся. Пусть и не в лучшую сторону. О богатствах Алтая прознают при императорском дворе. Тогда-то и перейдут богатые на руды земли под монаршее личное владение. На Алтай приедет Беэр, став местным управителем. Легче местному люду не станет, скорее хуже. Может и желала императрица добра обитателям предгорий Алтайский гор, да человеческая жадность второстепенных людей превыше разума. Будут они искать собственную выгоду, ничего им не дающую, кроме ощущения власти. И как не было счастья человеку, так и не появится. К тому же, герой повествования Лелеснов потеряет друзей, жена его заболеет, а ребёнок пропадёт.
Когда же наступит долгожданное облегчение? Когда действующие лица смирятся с обстоятельствами и не будут искать ничего, кроме обретения краткого ощущения покоя. Для начала им предстоит потерять всё, что они до того любили. Абсолютно всё! Друзей, семьи, даже жизнь должна перестать иметь значение. Ощущение никчёмности и ненужности позволяет спасти человека, если и он поймёт, насколько благом является отказ от существования. Нет, Лелеснов не закончит дни во мраке, он их продолжит в присущей ему лёгкости, ведь потеряв главное, он обретёт новое для него ощущение ему остро необходимого.
Автор: Константин Трунин