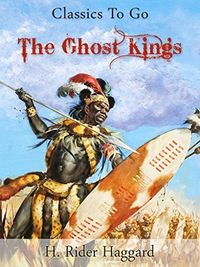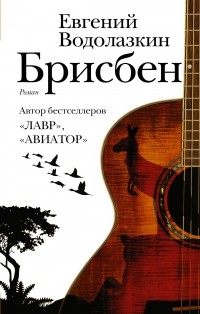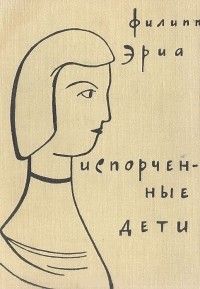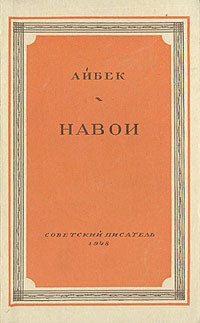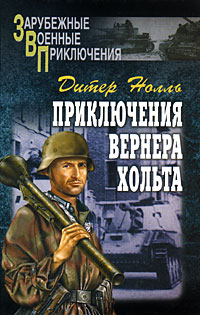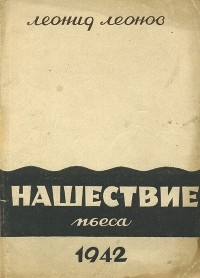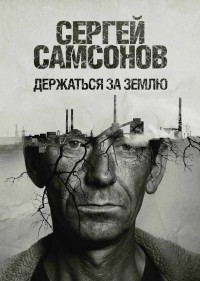Райдер Хаггард «Жёлтый бог» (1908)

Перед чтением «Жёлтого бога» нужно усвоить две вещи. Первая: Райдер почти созрел до идеи продолжить описывать похождения Аллана Квотермейна. Вторая: не всё то следует понимать буквально, как оно преподносится вниманию. Исходя из этого и следует знакомиться с очередным произведением Хаггарда.
Давайте начнём с конца. Предлагается увидеть новую африканскую причуду — поклонение Жёлтому богу. Вдумчивый читатель сразу отметит хитрость Райдера, иносказательно взявшегося повествовать ровно о той же страсти, присущей практически всем людям на планете — страсти к Жёлтому богу, который ими понимается под видом золота. И это не шутка! Хаггард описывал все те симптомы, характерные для людей, излишне помешавшихся на жизни, когда целью является желание овладеть как можно большим числом накоплений. Они истинно поклоняются Жёлтому богу, практически лишаясь души и теряя человеческие качества. Для примера Райдер расскажет про мужчин, становящихся мужьями Жёлтого бога — от пресыщения через год они умирают, истомившись от доставшихся им возможностей. Это довольно грубая формулировка, при том должная быть угодной читателю.
Сама история начинается в Англии. Именно там становится известным рассказ африканца, ныне проживающего вне родных земель. Он принял христианство, теперь вполне довольный доставшейся ему долей. Но он склонен рассказывать о традициях предков, постоянно поклоняющихся Жёлтому богу, выбирая оного из числа девушек. Те девушки каждый год выбирают себе мужей, взамен умерших. Такая история должна пленять воображение мужчин. Разве не склонны они желать такой судьбы, позволяющей им в одно мгновение стать обладателем всех доступных воображению возможностей? Потому и остужал Райдер пыл, говоря, чем грозит обладание богатствами, лишающими человека понимания смысла в продолжении существования.
Теперь давайте рассмотрим главного героя произведения. Зовут его — Алан Вернон. Уже в имени кроется нечто знакомое. Конечно, героем повествования мог стать и Аллан Квотермейн. До этой идеи Райдер Хаггард ещё не дошёл. И он должен был это понимать. Какими бы красками могла заиграть история, окажись главным героем именно Квотермейн. Да вот для пробуждения Аллана время не подошло. Хотя, идея повествовать об одном персонаже — это одна из тех идей, предпочитаемая многими писателями. Читатель с такой идеей соглашается, понимая, чаще всего каждый писатель, пусть и пишет он разные произведения, создаёт однотипных героев, переходящих из произведения в произведение под разными именами. Так не лучше ли их представлять под одним именем? До такой идеи Райдер и сам вскоре дозреет. Тем более, в его активе есть ряд работ, где он задействовал одних и тех же лиц, в том числе и про Аллана Квотермейна.
К тому же, по сюжету «Жёлтый бог» напоминал про укоренившуюся идею существования системы перерождений. Ведь не из простых побуждений выбирался новый Жёлтый бог, он оставался прежним, только с допустимостью его воплощения в уже родившемся человеке. Это и есть система перерождений, понимаемая весьма превратно, вне того смысла, который в данную идею изначально закладывался. Какой то был смысл? Тут об этом говорить не требуется. Важно вернуться к тому, с чего предлагалось понимать произведение. Райдер лишь отвлёк внимание, тогда как читатель сам осознал, кого и для чего следует понимать под Жёлтым богом. Отнюдь, не девушку, а предел мечтаний человечества.
Вопрос: зачем Хаггард написал два произведения об Африке подряд? Видимо, к тому появились соответствующие причины. Причём, ни одно из произведений по вкусу читателю не пришлось.
Автор: Константин Трунин