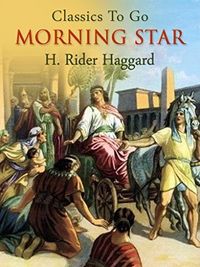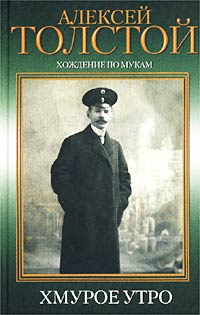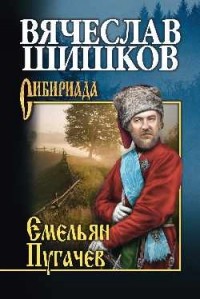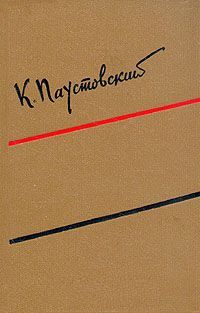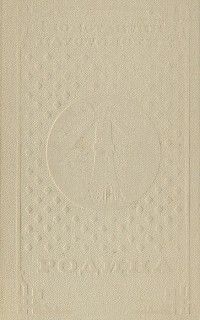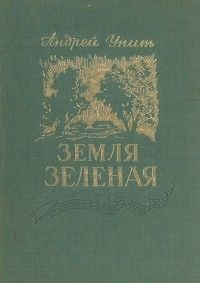Райдер Хаггард «Махатма и заяц» (1911)
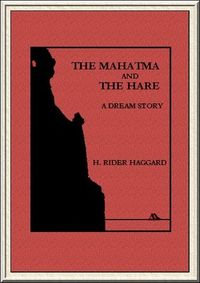
В цепочке перерождений случается и такое — встретились двое, не раз имевшие знакомство прежде. Они помнят, что с ними происходило в прошлых жизнях. Как теперь иметь отношение друг с другом, вести философские беседы? Особенно зная, по чьей вине приходилось умирать. Райдер Хаггард решил поднять важную тему, касающуюся необходимости понимать суть происходящих на планете процессов. Человечеству нужно отказаться от немотивированной агрессии, выражающейся в качестве охоты, не связанной с необходимостью добычи пропитания. Следует исключить из допустимого спортивную охоту, нисколько не оправдываемую, как к ней не относись и какие свидетельства для оправдания не приводи.
Итак, главный рассказчик тот, кому довелось побывать зайцем. Надо сказать, судьба заячьего рода особенно тяжела — опасности подстерегают повсюду. Убить могут хищники, с чем приходится мириться — им требуется жить, для чего они должны питаться. Но как отнестись к человеческой забаве убивать из спортивного интереса? На глазах читателя развернётся трагедия семейства, оказавшегося поставленным перед осознанием скорого уничтожения. Рассказчик потеряет всех родственников, погибших лютой смертью. И ему самому предстоит погибнуть, прожив достаточную по длительности жизнь, постоянно находя ухищрения для спасения. За свою жизнь он станет причиной смерти неосторожных животных, за ним же гнавшихся, в чём его вины быть не может.
Зайцу придётся страдать на протяжении отпущенной ему жизни, постоянно теряя всех, кого он любил. Будут убиты жёны, может дети. Всюду до зайцев проявляют интерес охотники, устраивающие травлю. Впору задуматься, зачем? Рассказчик разумно размышляет — в неволе специально выращиваются животные, в том числе и подобные зайцам, которых с избытком хватает на прилавках, причём стоимостью гораздо ниже, нежели в связи с затратами на охоту. Почему бы не охотиться за ними? Зачем беспокоить животных, чья жизнь не должна зависеть от спортивного развлечения. Так размышляет рассказчик, с тяжёлым сердцем вспоминающий страдания, перенесённые им в заячьем обличье.
Подспудно поднимется Хаггардом и другая тема для обсуждения. Касается она того самого перерождения душ. Какое моральное право имеет человек убивать ради удовольствия, если он сам некогда был животным, либо ему и вовсе предстоит стать тем же зайцем после смерти. Зачем? Действительно, одно дело, если человек убивает по причине добычи пропитания, из-за чего нисколько не осуждается принцип убийства: согласно ему — дабы жить, нужно питаться. Конечно, найдутся возражения. Однако, Райдер не стал углубляться в тему. Но и он мог дойти до мысли, что всякий живой организм вполне способен обладать душой. Следовательно, растительность имеет право быть задействованной в системе перерождений. Этого утверждения никак оспорить нельзя.
Хаггард не выражал однозначного мнения. В повествовании представлены двое. Один — жертва обстоятельств. Другой — предпочитает говорить с позиции силы. Действительно, как не рассуждай, всё равно суждено переродиться. Ежели так, то насколько важно — придётся принять смерть сейчас или позже, во имя нужды или по чьей-то прихоти. Опять же, думая наперёд, не знаешь, существует ли система перерождений, ведь не приходит заново в мир схожее число душ, поскольку из-за деятельности человека количество живого на планете постоянно сокращается. Хотя, доподлинно неизвестно, каким образом существуют микроорганизмы — настоящие цари природы.
Обязательно нужно пояснить, «Махатма и заяц» — скорее повесть, либо рассказ. Ознакомиться с ним можно довольно быстро, а задуматься всерьёз и надолго. Жизнь не становится понятнее. Причина ясна — не существует единственного решения! Ответов много, все они в равной степени верны.
Автор: Константин Трунин